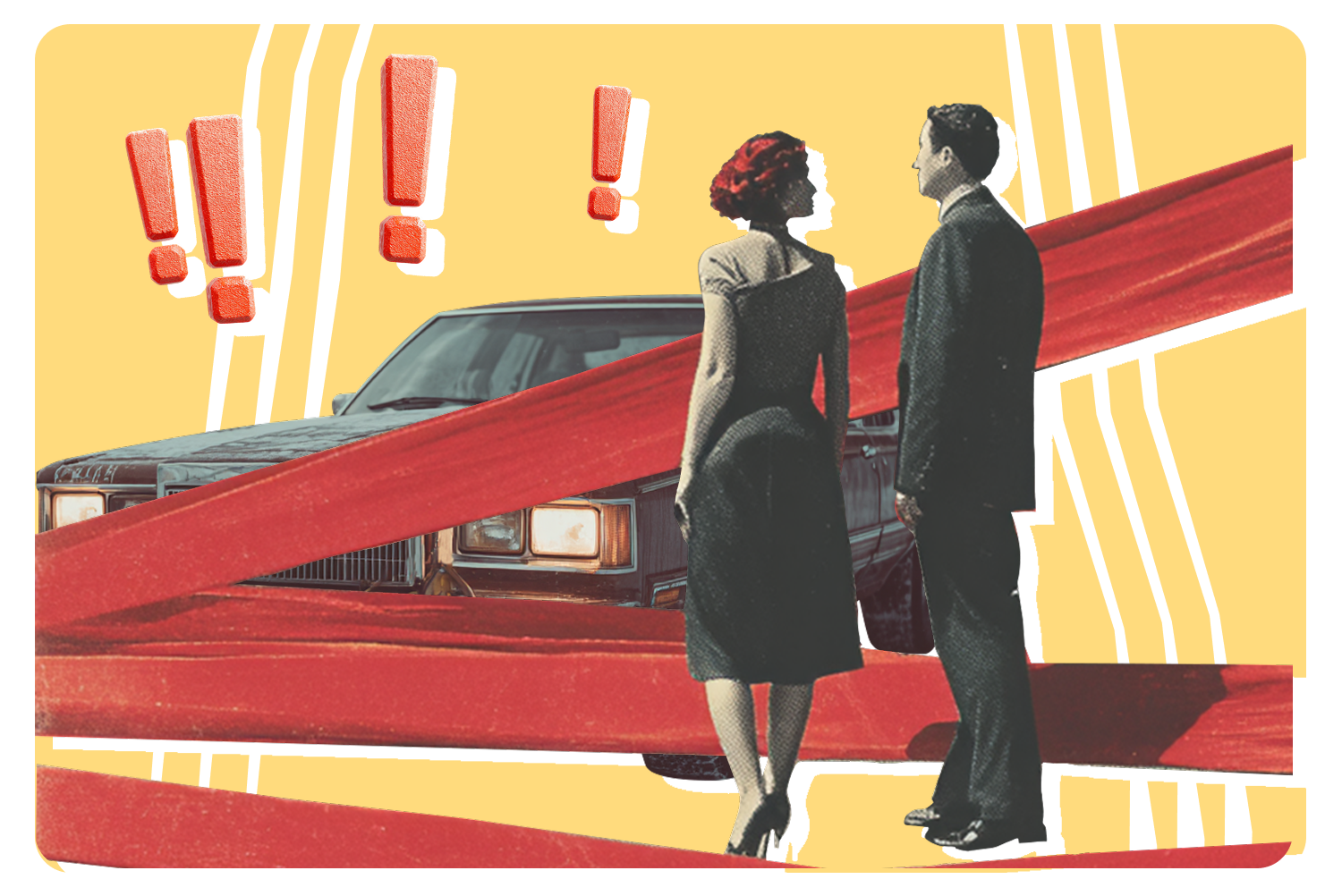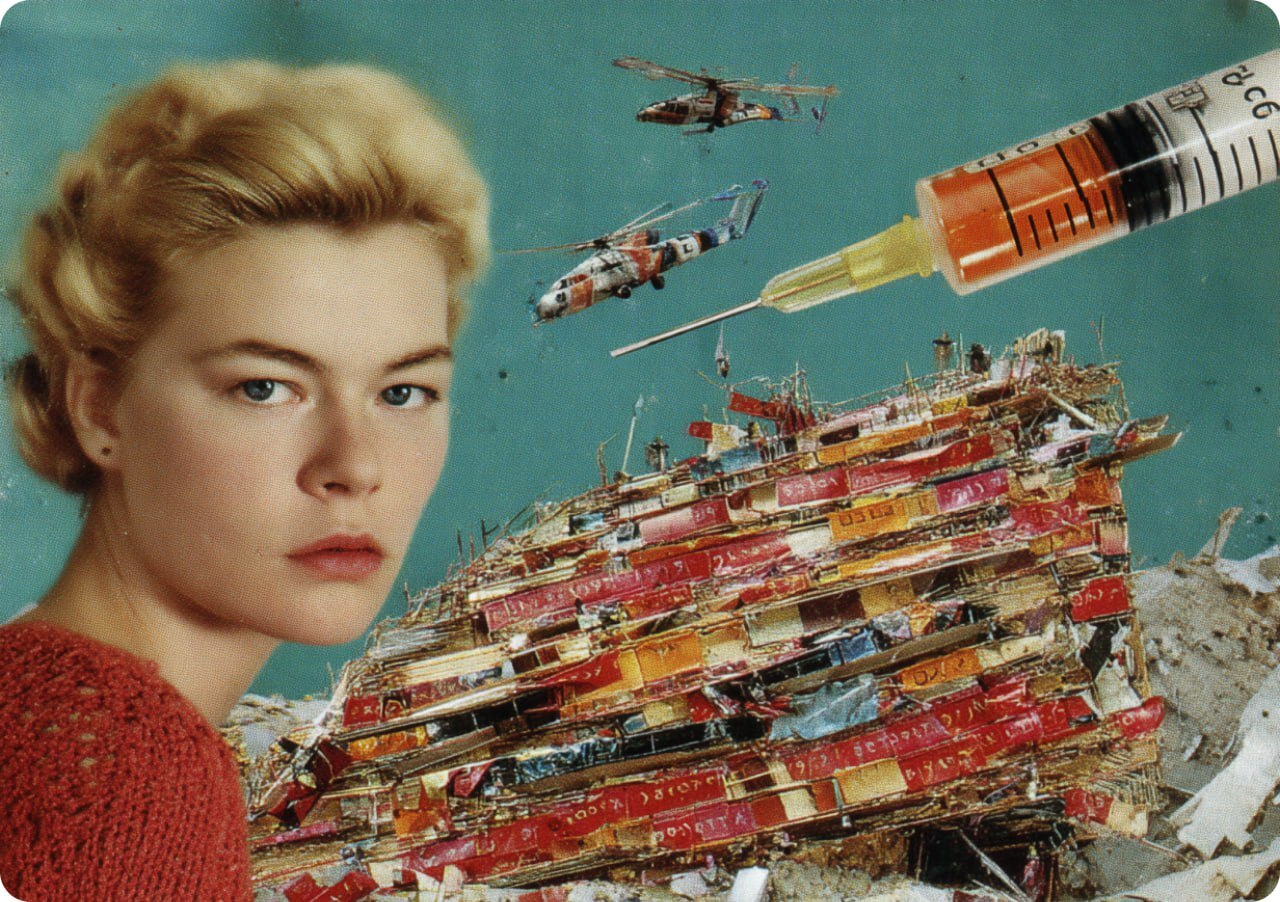Рекламный анонс одного питерского клуба весьма примечателен: «В пятницу, 16 апреля, пройдет встреча с писателем из Югославии Неделько Фабрио, автором романа «Смерть Вронского». Участники: Александр Секацкий, Наль Подольский, Сергей Носов (крутые питерские писатели)».
От «югославского писателя» господина Фабрио перекорежит, это к бабке не ходи – он ХОРВАТСКИЙ писатель, и никак иначе. А в остальном все верно, обширная программа этого визита и впрямь приурочен к российскому изданию романа «Смерть Вронского», и роман этот российские читатели могут принять как угодно, только не равнодушно.
Главный герой «Смерти Вронского» — тот самый Алексей Кириллович, любовник Анны Карениной. Читавшие роман помнят, что Вронского, потрясенного смертью Анны, Толстой отправляет добровольцем на балканскую войну и прощается с ним на перроне вокзала.
Столетие спустя бесхозного литературного героя подобрал Неделько Фабрио и поведал миру о его дальнейшей судьбе.
Перед нами сиквел толстовского романа, но сиквел не совсем обычный. Фабрио не разменивается на тупое продолжение, вроде незабвенного двухтомника Л. Васильевой и А. Старостина «Пьер и Наташа». Хорватский беллетрист учиняет постмодернистский кунштюк, в результате которого Вронский приезжает на Балканы в конце не XIX, а XX века – в самый разгар гражданской войны в Югославии. Добавьте к этому то, что балканские события описаны не с привычной нам сербской точки зрения, а глазами их противника – хорвата. Для россиян, забрасывавших стены американского посольства разным мусором после начала бомбардировок Белграда, чтение занимательное.
Тем более что Фабрио убежден: русские поголовно одержимы идеей «наш долг – помочь сербам» и только тем и занимаются, что жгут чучела папы римского. Поэтому честно предупреждает в послесловии: «Я не жду аплодисментов от российских читателей «Смерти Вронского», но надеюсь на искреннее желание постараться понять меня…» Стараться не придется. У сербов в романе разве что кровь с клыков не капает, чего ж непонятного. Всю книгу православные занимаются исключительно тем, что режут беззащитных пленных, выковыривают им ножами глаза, мародерствуют, расстреливают женщин и детей и вообще всячески геноцидят хорватов бело-пушистой масти. Предел мечтаний нации извергов – уничтожить всех, вплоть до изобретенных ими «хорватских кошек».
Когда-то авторы былин в своем простодушии заставляли отрицательных героев даже в прямой речи говорить как положено: «Гой еси, это мы едем на Русь, поганые бусурманские послы нашего собаки-хана!» Судя по роману Фабрио, этот прием не потерял своей актуальности.
«Все, что происходит в эту войну, было нами запланировано. В том числе и этнические чистки. Да-да, геноцид. Тех хорватов, которых нам не удастся перебить, мы должны запугать так, что бы они больше никогда не хотели вернуться в свои дома!..» — речь сербов неказиста, как стоптанная кирза.
Трудно говорить о степени вины сербов или хорватов – на войнах, тем более гражданских, ангелов не бывает. Но мало разницы между теми, кто с пеной у рта ратует за «братьев-сербов», путаясь при этом, где Загреб, а где Сараево, и теми, кто с первых же страниц начинает рассказывать, как сербы набирали в четники некрофилов и садистов да еще и постоянно хвастались этим.
Вронский тем временем командует конногвардейским эскадроном, идущим в наступление при поддержке танковой колонны, и танцует голым при луне в окружении малолетних уродов из сумасшедшего дома. А что еще остается? Любимая умерла, на репутации поставлен крест службой в сербской армии людоедов. Правда, вспыхнула нечаянно новая любовь к украинской проститутке Соне (какой роман о русских без проститутки Сони?), но благороден Вронский, не захотел ее жизнь губить, пошел и подорвался на мине.
Свою лепту внесло и издательство. Бог с ним, со «Смертельно раненым» Верещагина, зачем-то приляпанным на обложку.
Но когда Вронский цитирует Тютчева, то поражаешься косноязычию великого русского поэта: «Сияй, свет прощальный, любовь последняя, заря вечерняя». И лишь потом понимаешь, что переводчице Ларисе Савельевой было лень заглянуть в любой сборник Тютчева и строки из хрестоматийной «Последней любви»: «Сияй, сияй, прощальный свет // Любви последней, зари вечерней!» даны в обратном переводе с сербохорватского.
Более же всего раздражает отношение автора к своему предшественнику. Продолжатель цитирует русского классика целыми абзацами, правда, большей частью почему-то потрошит «Войну и мир». С удивительной задушевностью общается хорват к зеркалу русской революции и с редким, добавим, амикошонством: «С какой же легкостью, Николаевич ты мой Лев, входят они в наш рассказ» или «Не ужасайся, граф Лев Николаевич, перед этой возможной любовной сценой между твоим героем и моей бедной Соней. Ничто более не унизит ни величия твоего пера, ни целостности созданного тобой образа. Продолжай покоиться на лаврах».
«Лауреат многих литературных премий», как аттестует себя Фабрио в послесловии, убежден, что равновеликим фамильярность дозволена: «Стоит граф Алексей Кириллович Вронский перед Вуковаром, стою я над Вронским. Он — дитя войны, я — его второй отец». Неделько же ты наш Фабрио…

 Цивилизация
Цивилизация