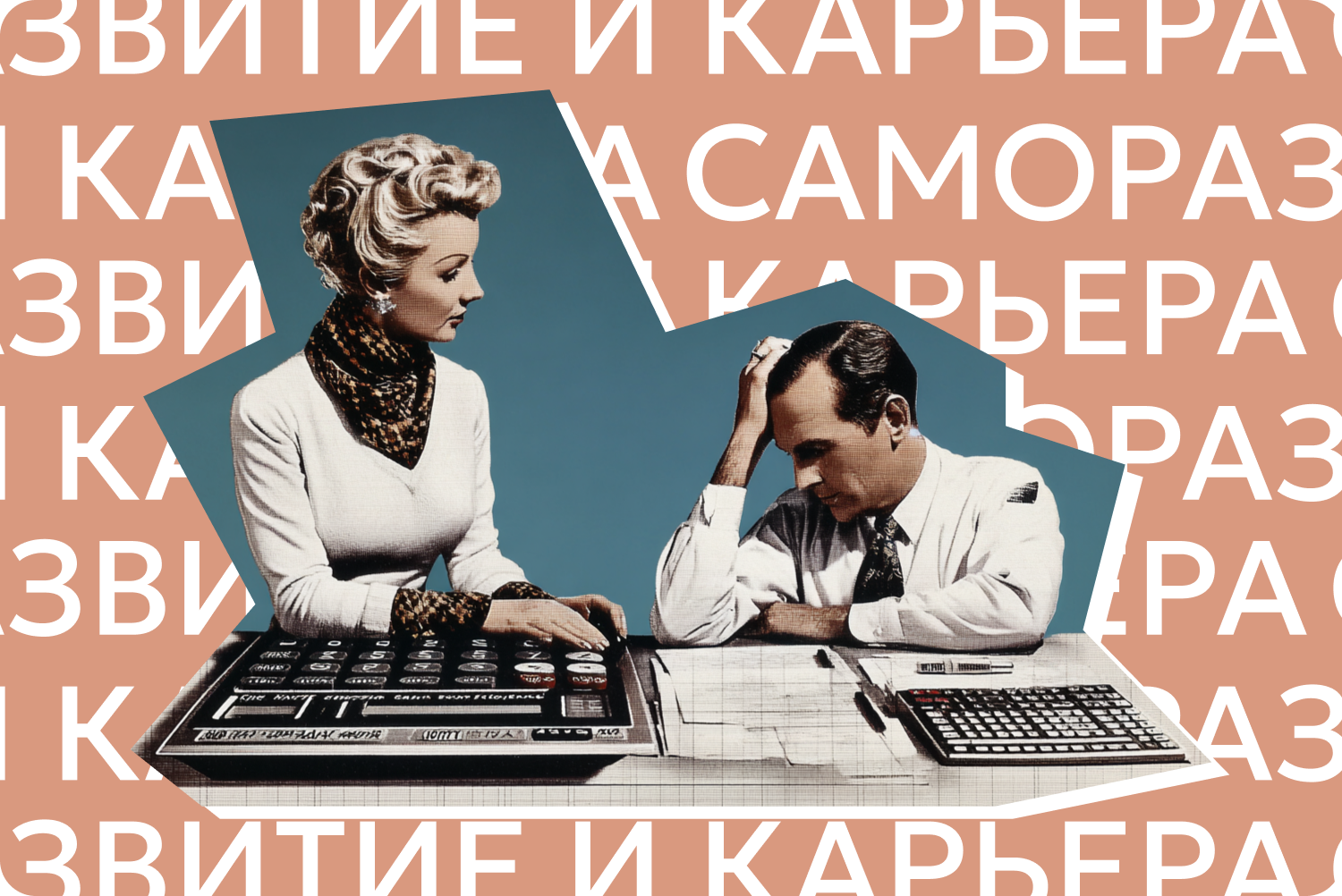Давно не напускали такого туману. До самой премьеры «Табакерка» темнила, никто так и не знал распределение ролей в «Похождении». Газетные анонсы в растерянности предлагали зрителям самим разложить пасьянс: известно, что поставлено по «Мертвым душам» и Чичикова будет играть Сергей Безруков, а дальше — Олег Табаков, Борис Плотников, Дмитрий Куличков… Кто — кого, догадайтесь сами. Действительно непонятно. Вот Табаков в молодости был совершеннейший Чичиков. Ноздрев тоже был его ролью. А сейчас?
Миндаугас Карбаускис, режиссер, считающийся самым вдумчивым и серьезным в сегодняшнем младшем поколении, карт не раскрывал, а в одном из допремьерных интервью говорил, что думает, будто «Мертвые души» «должен делать нерусский человек, с другим менталитетом. Может, потому что это написано не в России, ведь взгляд Гоголя находится под влиянием другой культуры».
Ясно было, что это станет важным для спектакля литовца: взгляд чужака на Россию. Так и случилось. Взгляд, лишенный сентиментальности, но полный холодноватого изумления. И непонимания.
По авансцене идет дорога глубокой раскисшей грязи: «Почва была глиниста и цепка необыкновенно», — писал Гоголь. Вдоль нее рядком выставлены валенки с калошами — выходя на дорогу, все надевают их прямо на обувь и дальше нелепо ковыляют, с громким чавканьем вытаскивая ноги из грязи. Спектакль начинается с того, что родители провожают в школу малыша в огромном картузе. Из-за кулис он выходит уже Чичиковым--Безруковым, в том же картузе и сопровождении Селифана с Петрушкой. Дальше — коротенькая экспозиция, где герой узнает, что, оказывается, мертвые души тоже можно закладывать, и — вперед, по помещикам.
До премьеры говорили, что инсценировка «Мертвых душ» у Карбаускиса — булгаковская, та самая, которую он писал по заказу Художественного театра в начале 30-х. В программке это уже не пишут.
Видимо, потому, что от текста Булгакова остался один скелет: нет ни комментатора, выполнявшего в инсценировке роль автора, ни длинных обстоятельных разговоров, ни многочисленных городских чиновников и дам. Эта Россия какая-то совершенно пустая. Вот появился Чичиков рядом с загораживавшей всю сцену огромной ободранной стеной, вошел в дверь, стена отодвинулась, а там — ступенька вверх и все те же лысые стены, наружу рейками, в кляксах старой шпатлевки и обрывках обоев (художник — Сергей Бархин). Это дом очередного помещика. А вот и сам он, вместе с женой или служанкой. Вещей, кроме стола и стула, нет. Короткий разговор о мертвых душах. Отъезжает следующая стена, шаг на ступеньку вверх: тот же стол и стул, те же стены, другой помещик с бабой.
Снова о душах. Поехала третья стена. Шаг в глубину и вверх: стены, стол, стул, помещик, баба.
Манилова играет завитый бараном молодой Алексей Усольцев. Он курит трубку и подолгу, взасос целует жену. Собакевич — высокий и худой Борис Плотников, которого те, кто играл в угадалки, прочили на Плюшкина. Ничего того, что мы привыкли думать про этого вырубленного топором грубияна, нет. Собакевич — просто брюзга и зануда. Плюшкин — Табаков. Неожиданно (для героя, а не для Табакова) витальный, сентиментальный и смешливый. Расчувствовавшись, поет жестокий романс. Вспомнив дочь, умиляется: «Приехала с двумя малютками, они ручонки тянут: деда, деда!» Ничего этого, конечно, у Булгакова не было. Ноздрев — Дмитрий Куличков. Он все время сует голову в шайку с водой. Коробочка — Ольга Блок-Миримская.
Спектакль совсем короткий — он идет всего два часа без антракта, но ощущение, что тянется бесконечно. Из него будто выкачан воздух, и актеры в этой пустоте плавают растерянно и медленно, как в невесомости, не имея, за что ухватиться.
Разве что Чичиков — Безруков, который все время пытается как-то их убыстрить, ходит ходуном: семенит, подсигивает, сучит ногами-руками, и на всякий его прыжок откуда-то с галерки раздается одинокий смех кого-то из поклонниц телезвезды. Но вообще-то смеяться в этом спектакле не над чем (если не говорить о Табакове, который как всегда по-свойски обживает любой, даже самый холодный режиссерский рисунок). История получается странная и тягостная, безо всякого развития, если не считать развития декораций: вот бежал-бежал Чичиков, торопливо окучивая по дороге помещиков, куда-то вперед и вверх, будто к какой-то высокой цели. А там открылись последние, центральные двери и мы увидели в луче света три настоящие лошадиные головы. Они фыркали и ели из ведер овес. Это была та самая птица-тройка, символ России.
Я, признаться, давно не видела такого мучительно-невнятного спектакля, как эта постановка Карбаускиса. Спектаклей глупых, бессмысленных, халтурных — сколько угодно. Не было такого, как этот, где видно, что режиссер имеет мысль, но, будто косноязычный человек, никак не может ее высказать: заикается, показывает жестами, багровеет, страдает… А с ним страдаем все мы, в отчаяньи пытаясь догадаться, что он имеет в виду: грязная Россия? спящая? бездельная? Огромные ли ее пустые пространства его пугают? Бог знает, что видится в ней человеку, специально подчеркивающему, что у него другой менталитет.

 Цивилизация
Цивилизация