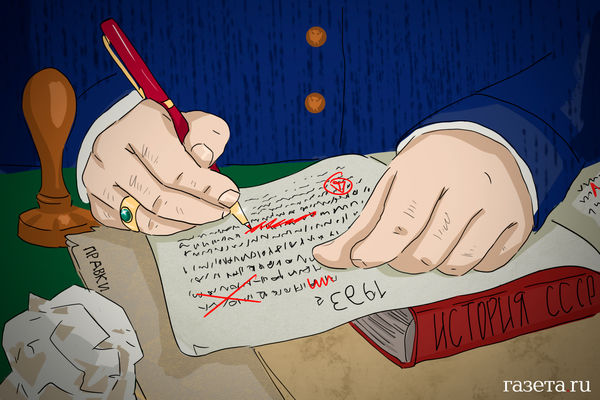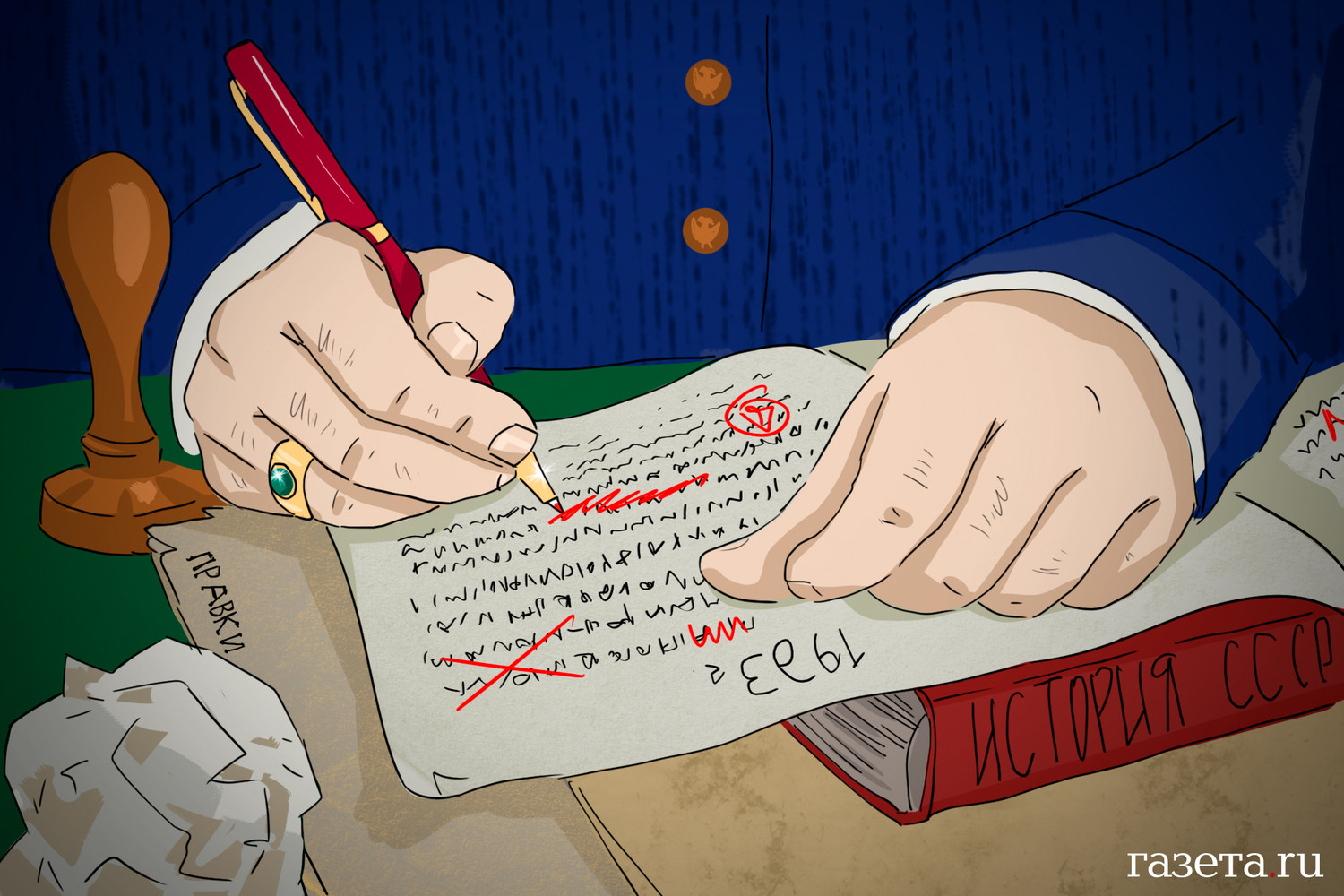«О, Мария-Луиса! Ты должна знать правду! Ты думаешь, что Хосе-Антонио твой отец? Я открою тебе страшную тайну: он – твой сын!» Смешно. Но и серьезно: так, или примерно так, выглядит пересмотренная, то есть «теперь наконец-то правдивая» история в трудах постколониальных или постимперских исследователей. Родные и любимые братья становятся в лучшем случае дальними родственниками, друзья-покровители оказываются врагами-эксплуататорами, и наоборот, исконные враги превращаются в бескорыстных помощников. Ну и разумеется, бывшее «добровольное присоединение» рассматривается как оккупация.
Ничего удивительного. У каждой страны, у каждой нации – своя собственная история. Свой эпос побед и поражений, страданий и радостей. Свои памятные даты, свои герои и мученики – которые в другой стране, у другой нации могут вызывать разве что отстраненное почтение, замешанное скорее на вежливости, чем на искренности. Или равнодушный гнев (бывает и такое – оцените свое личное отношение к тиранам и кровопийцам из чужестранного прошлого, от Калигулы до Робеспьера). А иногда – скрытый смешок: «Ну разве это герои? Разве это битвы? Вот у нас – настоящие битвы, подлинные герои!». Но ведь и в самом деле – что русским до Карла Смелого, что французам до Андрея Боголюбского?
Своя история есть и у каждого народа внутри империи. Для всех народов, в нее входивших, империя установила общую историю великой единой (точнее, объединенной) страны. Именно в такой истории говорится о добровольном вхождении в состав и о великой цивилизаторской миссии «старшего брата», будь он русским или британцем. Самое смешное, что вхождение в империю иногда бывало бескровным, а то и вовсе добровольным и, что называется, легитимным – по декрету суверена или по решению законно избранного парламента. Цивилизаторская миссия подчас бесспорна – посчитайте количество новых университетов, больниц и театров на завоеванных (то есть добровольно присоединившихся) территориях.
Однако при распаде империи каждый народ, образовавший отдельную независимую страну, нацию – начинает писать свою собственную историю, со своими героями и своими именами событий, и, разумеется, с полным переворотом в области нравственных оценок.
«Но как-то с трибуны большой человек
Воскликнул с волненьем и жаром:
«Однажды задумал предатель Олег
Отмстить нашим братьям-хазарам!»» (А. Галич)
То же самое происходит в постреволюционной истории. Традиционные, столетиями сформированные представления и оценки русской историографии были опрокинуты после Октябрьского переворота. А после 1956 года в советской историографии наступила, если можно так выразиться, «постцензурная» эпоха. До этого времени общепринятая в СССР историческая концепция была пересказом «Краткого курса истории ВКП(б)» 1938 года – но после ХХ съезда КПСС внутри совершенно советских рамок наступило ослабление цензуры и некоторая переоценка ценностей, связанная с публикацией новых документов. Второй вал постцензурной истории (а может быть, и отчасти постреволюционной – если распад СССР и крах коммунизма считать своего рода революцией) – накатился после 1991 года. Наступил столь ненавистный для многих либеральный плюрализм оценок. Никто не мешает считать Сталина великим вождем – но не надо мешать другим считать его правление несчастьем для России. Но именно это (а не само по себе свержение коммунистических кумиров) стало незаживающей раной для исторического сознания людей, привыкших к единообразию оценок, подпертых хорошо подобранными историческими фактами.
Иногда вот такую историю – постимперскую или постцензурную – неприятно читать. Но нет ничего смешнее и бессмысленнее, чем называть этих историков лжецами, мошенниками или клеветниками.
Это как при разводе. Любимый муж оказывается подонком и бабником, а обожаемая жена – алчной стервой. И нет ничего смешнее, чем обращаться к памяти и разуму, говорить: «А помнишь, как я…» или «Но ведь ты сам/а говорил/а». Разум кипит, очень возмущенный, а память – всего лишь служанка эмоций.
Увы, это в значительной мере относится и к исторической памяти. Негодующие слова «а ведь на самом деле все было не так!» демонстрируют лишь наивность того, кто их произносит.
Ах, это проклятое «на самом деле»! Предложение «снег – белый» является истинным, потому что мы регулярно наблюдаем именно белый снег, и, если запорошить его угольной пылью – он все равно будет белым. Снег отдельно, грязь отдельно. Предложение «все лебеди – белые» напротив, является ложным, поскольку в любом зоопарке в пруду плавают и белые, и черные лебеди.
С историей такая верификация не проходит. История не существует вне документов, исследований, популярных книг и учебников, школьных и вузовских. На свете нет места, где бы сегодня находилось прошлое – вот такое, каким оно было. Мы не можем реально очутиться ни в древнем Риме, ни в Москве 1991 года. История существует только в документах, исследованиях, учебниках и исторических романах.
Но документов такая чертова масса, что даже внятно изложить их – не говоря уже о том, чтобы выстроить в непротиворечивую систему – невозможно ни технически, ни логически. Исследования опровергают друг друга. Учебники меняются не только по из-за новых открытий, но и в ходе политических перемен. Что уж говорить о фантазии романистов!
Был при Николае I знаменитый министр народного просвещения граф С.С. Уваров, тот самый, который столь удачно перевел на русский язык лозунг французской революции «Liberté, égalité, fraternité». Ежели буквально – «Свобода, равенство, братство», а ежели для подданных русского царя – «Православие, самодержавие, народность». То есть не перевел, конечно – а нашел удачную альтернативу.
Граф Уваров однажды написал: «Конечно, источники истории, со времени открытия книгопечатания, размножились до бесконечности, критика сделалась настойчива и искусна, факты записываются тщательно до мелочей, но надежнее ли оттого их достоверность? Это положение вещей благоприятнее ли для разыскания истины?» – (журнал «Современник», 1851, № 1).
Кажется, с легкой руки Гончарова, вскорости процитировавшего эту фразу в своем «Фрегате «Паллада»» – пошла популярность этого вопроса-парадокса. В краткой форме: «Достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники?» Ответ, увы, отрицательный. Хотя ведь, казалось бы, история требует фактов, фактов и еще раз фактов. Гора фактов растет – радуйтесь, ревнители достоверности! Но все получается наоборот. Факты противоречат один другому, а критика очень ловко научилась их опровергать или ставить под сомнение.
Но главная загвоздка – в слове «достоверность». О, эта многозначность языка! В основе слова «достоверность» (как и слова «вероятность») – «вера». Что значит «достоверный»? Истинный? О, нет. Слово «истина» (так считал философ Лосев, ссылаясь на лингвиста академика Щербу) происходит от «есть» («быть») – то, что существует. Фасмер считает эту этимологию спорной. Но скорее всего – от праславянского *isto (ср. латинское iste) – «вот этот, этот самый». Истинное – это то, на что можно указать пальцем. Как на белый снег или черного лебедя, о чем я говорил чуть выше. Но что же такое «достоверное»? Достойное веры. То, во что мы – по тысяче причин – можем поверить.
А что это за причины? В повседневной жизни – наши эмоциональные привязанности. «Мне не по думанью любим, а по любви думаем», – писал Розанов, а потом и Фрейд. А в политической жизни – и в истории, которая на 99% есть история политическая – причины лежат в области наших политических предпочтений.
Позволю себе длинную цитату из повести Корнея Чуковского «Серебряный герб».
«Новый учитель вдруг, к нашему изумлению, трижды перекрестился на икону пророка Наума, потом поднял могучие плечи, будто приготовился к бою, и крупным, уверенным шагом пошел по рядам.
– Что вам задано? – воинственно обратился он к Тюнтину.
– Екатерина Вторая, параграф восьмой и девятый.
– Неверно. Стойте столбом… Ну-ка, вы!
– Нам задана Екатерина Великая, параграф восьмой и девятый.
– Неверно. Стойте столбом… Ну-ка, вы!
Кого бы он ни спрашивал, все отвечали ему одинаково, и каждого он заставлял «стоять столбом». Таких «столбов» набралось уже больше десятка. С отвращением посмотрел он на них, как смотрят на мокриц или жаб, и наконец проговорил расслабленным, обиженным, страдальческим голосом, очень медленно, отчеканивая каждую букву:
– Не Екатерина, а им-пе-ра-три-ца Екатерина Великая. Екатериной вы можете называть вашу дворничиху… Но го-су-да-ры-ня им-пе-ра-три-ца… Она исправляла нравы, насаждала науки, осчастливила нашу отчизну завоеванием новых земель…
Было похоже, что он сейчас заплачет.
– И вообще предупреждаю, что всякий из вас, – продолжал он тем же детским, обиженным голосом, который так не шел к его огромному росту, – кто на уроке истории скажет мне о каком-нибудь из самодержавных им-пе-ра-то-ров русских просто Павел, или просто Александр, или Николай, или Иван, получит от меня… – тут лицо его засияло, как солнце. – Е-ди-ни-цу».
Думаю, что все протесты против «переписывания истории» и против ее «фальсификации» круто замешаны на обиде за вождя. «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей мудрости полет», а тут вдруг кто-то смеет говорит о нем без придыхания. А то и вытаскивать на свет Божий его расстрельные резолюции.
Но со словом «фальсификация» получилась интересная история, своего рода занятная игра слов, помогающая нам приблизиться к сути вопроса.
Есть знаменитый науковедческий принцип, помогающий разграничить науку и не-науку. Карл Поппер сформулировал его в 1934 году в книге «Логика исследования» (авторизованный перевод на английский – «Логика научного открытия»). Это – «критерий фальсифицируемости». Фальсифицировать – означает «делать фальшивым», то есть, попросту говоря, «опровергать». К «фальшивкам» в бытовом смысле это не имеет отношения, да и по-английски звучит чуточку по-разному – falsification (подделка) и falsifiability (фальсифицируемость, то есть опровергаемость); но дело не в этом.
Дело в том, что если теорию в принципе можно фальсифицировать (по Попперу; по-нашему – опровергнуть) – то это научная теория. Если нет – то нет. Например, Поппер не считает психоанализ наукой. Почему? Потому, что против любой критики психоанализа есть чисто психоаналитическое возражение. Например: «Мне кажется неверным, что данное явление вызвано бессознательными комплексами». Ответ: «Вам мешают это признать ваши бессознательные комплексы». Змея кусает себя за хвост, а разговор переносится из научного анализа на личность критикуемого, которого обозвали закомплексованным дураком.
В разговорах о «недопустимости фальсификации истории» слышится та же песня. «Вы не патриот, вы поете с чужого голоса, вы льете воду на мельницу врага» и т.п. Вместо разговора по существу – намек на 58-ю статью.
У истории нет и никогда будет единой истинной версии, потому что история – это не катехизис истинно верующего.
История – это и есть процесс ее переписывания.