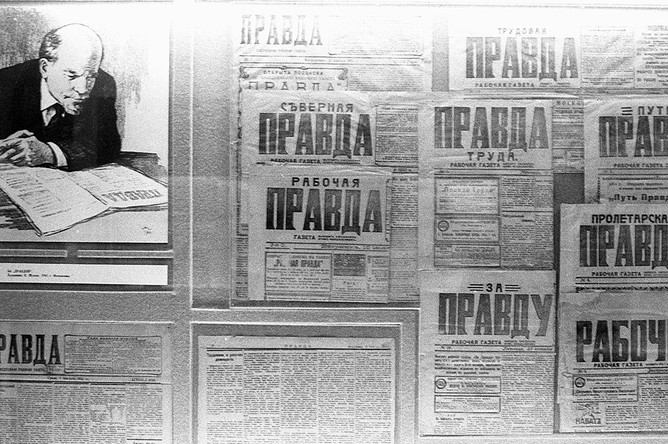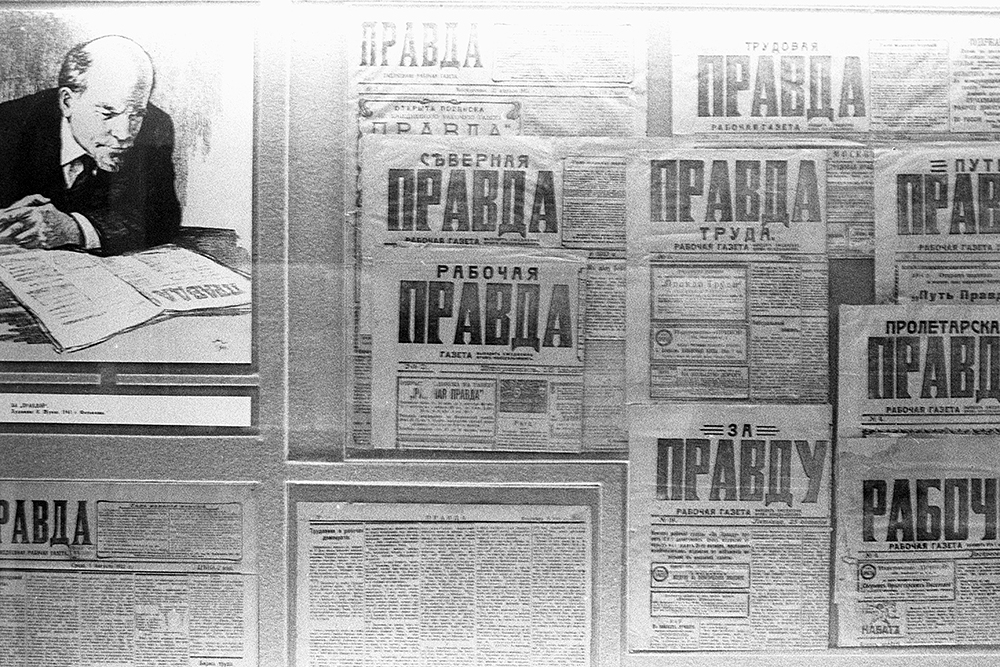Табуированные темы есть в Америке. Во Франции — вспомним недавнюю историю с комиком-антисемитом, которому объявили бойкот. В исламском мире — тот же скандал с карикатурами на пророка Мухаммеда в Дании. В Германии очень не любят упоминать Гитлера. В Польше депутаты от националистической партии «Право и справедливость» недавно предлагали ввести уголовную статью за употребление выражения «польские концентрационные лагеря». Под эту статью – будь она введена — мог бы попасть даже президент США Барак Обама, который по неосторожности и недосмотру употребил это словосочетание.
Такие негласные запреты имели место и в Советском Союзе. Напомню наиболее жесткий и наименее известный: зоной вне критики на протяжении долгого времени были вооруженные силы и военачальники. Подозреваю, что громкое убийство молодого журналиста из «Московского комсомольца» в 1990-х — наказание за нарушение этого табу: он оскорбил командира, который вел на смерть людей в Афганистане и в других горячих точках. Люди, преданные командиру, генералу, десантнику, Герою Советского Союза могли не ждать приказа, чтобы наказать нарушителя. Таковы были неписанные законы советской военной касты или, как сказали бы сейчас, понятия.
Последняя история вокруг блокадного опроса, который задал оппозиционный телеканал, проявила, что табуированной, неприкасаемой темой до сих пор остается тема роли СССР во Второй мировой войне, тема Победы и всего, с ней связанного. Высказываться на эту тему в ключе, отличающемся от советской версии истории Второй мировой войны, становится всё менее допустимо.
В первый момент мне показалось, что тема вокруг вопроса была раздута лишь для того, чтобы прикончить телеканал. Но потом я прочитал в социальной сети возмущенное мнение молодого доктора политологии, в искренности гнева которого не смог усомниться. Он описывает реакцию своего дяди-ленинградца, корабела-моряка, блокадника на формулировку вопроса о цене, заплаченной жизнями за несдачу Ленинграда. Что же получается? Неужели мы гибли и страдали напрасно? Но цена-то была заплачена человеческими жизнями, и какая! Кощунственно и неприлично усомниться в этом. При этом факт остается фактом – в блокадном Ленинграде человеческая жизнь обесценилась.
Даниил Гранин, выступая в бундестаге, вспомнил Косыгина – руководителя эвакуации Ленинграда. При выборе, что вывозить из города в первую очередь — ценные вещи, металлы, станки, горожане — люди шли далеко не первым пунктом.
Как известно, мемуары советских военачальников писались литературными рабами, которые одновременно должны были точно знать, что можно и что нельзя включать в текст. Они были обязаны согласовывать всё с военной цензурой – была в Советском Союзе такая организация, если кто не помнит. Из обрезков таких мемуаров появилась одна из лучших книг о Великой Отечественной войне Георгия Владимова «Генерал и его армия». Именно он взялся обсуждать судьбу генерала Андрея Власова, сопротивление сталинизму и многие другие темы, которые ранее были территорией умолчания в советском поле.
Во время и после перестройки запреты были сняты, потому что от власти в силу смены поколений ушли многие участники войны, которые были создателями и блюстителями советской истории.
Я помню, как после появления книг Виктора Суворова о Второй мировой войне, где он писал о том, что Сталин планировал первым нанести удар по Гитлеру, забил поток возмущенных публикаций о недопустимости фальсификации истории. И тут же все бросились читать Суворова – его книги издавались огромными тиражами. А противники выглядели всё менее убедительно. Позже как-то незаметно версии Суворова начали перекочевывать в сочинения официальных военных историков. Они поняли: «Ага! Если издали Суворова, то можно и нам» — табу снято.
Конечно, очень сложно менять трактовку того или иного исторического события, пока живы его участники.
Моя тетушка вспоминала, как после ХХ съезда КПСС и обнародования фактов сталинских преступлений заполнялись психушки и увеличивалось количество самоубийств.
«Так что же?» — говорили большевики. – «Всё было напрасно? Кровь коллективизации, раскулачивание, доносы, ночные аресты врагов?» Моя беспартийная мама спорила со своей лучшей подругой (членом КПСС) о том, что Бухарина обязательно реабилитируют. Подруга говорила – никогда. Но реабилитировали. И теперь уже только специалисты и старики помнят, что роль и судьба Бухарина была предметом острой политической дискуссии в СССР.
Вспоминаю вопрос, который услышал от своего отца, когда мне было лет десять. На дворе стояли ранние 1970-е годы и основной «духовной скрепой общества» был Ленин. Только что бурно отпраздновали 100-летие вождя революции. Он был везде и повсюду, «всегда живой, всегда с тобой, Ленин в тебе и во мне», как пелось в известной песне. И вдруг отец спросил меня: «Как ты думаешь, расстрел царской семьи был правильным решением?» Об этом тогда почти не говорили. Я уже был достаточно индоктринирован советской школой и бодро ответил: «Но ведь царь был враг». — «А царевны, а малолетний наследник, у которого была гемофилия?» И тут же, видимо, понимая, что я мало что об этом знаю, подсказал: «Понятно, что их могли использовать как знамя контрреволюции…» По Москве еще ходили люди, которые лично расстреливали царскую семью и были героями своего времени.
Кто бы мог подумать тогда, что через двадцать лет Николая II причислят к лику святых или, как говорит мой друг, «страстотерпцев», а царевен и наследника объявят новомучениками. И во всеуслышание будет провозглашено, что Ленин развязал массовый террор против своего народа.
За тот вопрос, который мне задал тогда отец, можно было отправиться в 1970-е годы лет на пять в Мордовию или в Чистопольскую тюрьму под Казанью. Но беседа произошла в узком семейном кругу, а я не был Павликом Морозовым.
В истории России много сюжетов и тем о том, какие страдания вынес русский, украинский, белорусский и многие народы бывшего СССР в ХХ веке. Как бросали вперед вместо пушечного мяса перед танками киргизов и узбеков. И сколько придется еще нам искать ответов на вопросы о цене победы и ее последствиях для Центральной и Восточной Европы. Да, был не только героизм, но и коллаборационизм, и плен, и каннибализм в блокадном Ленинграде.
Режиссер Алексей Герман замечательно представил эту неоднозначную, запутанную тему в своей картине «Проверка на дорогах», которая долго лежала на полке именно потому, что нарушала советские табу. Фильм представлял войну не в виде парадного портрета, а во всех ее ужасах: смертях, голоде, человеческом озверении, идеологической ограниченности, страхе, хотя, в конечном счете, речь в ней шла о мужестве и самопожертвовании во имя своего народа без прикрас. Все это было рядом. Шло рука об руку.
Эта тема – цена Победы и ее последствия — не должны быть табу, если мы хотим развиваться как общество. История Россия ХХ века требует того, чтобы мы задавали себе вопросы и искали ответы на них.
Есть в этой теме еще один нюанс. Вопрос о наказании за нарушение запретных тем или прикосновение к тем темам, которые могут покоробить или оскорбить общественное сознание. За оскорбление пророка Мухаммеда наказанием может быть смертная казнь — убийство. И поэтому в Голландии и в Дании были попытки покушения на журналистов, которые позволили себе нарушить правила высказывания в исламском мире. Другой вопрос, что они жили в западном мире, на который стали распространятся законы ислама. Некоторых убивали. Другие прятались от попыток покушения на свою жизнь.
В более развитых странах наказание за инакомыслие не столь жестоко. Во Франции комику-антисемиту объявили бойкот. В Соединенных Штатах вокруг человека, который осознанно или неосознанно нарушил неписанные правила, могут создать такую стену равнодушия, что он сам броситься с моста через Гудзон. Или попытаются разрешить конфликт в правовом поле – пользуясь нашей фразеологией, затаскать по судам. Правда, бывает и так, что по прошествии времени человек, подвергшийся общественному остракизму, может оказаться тем мальчиком из сказки Андерсена, который сказал, что нового платья на короле нет. И это наконец увидят все. Правда, мальчик к этому моменту уже отсидит лет 10.
Да, он попрал нормы и представления, доминирующие в общественном сознании, но ради чего было совершено это деяние, каков был мотив и смысл? И почему наказание за высказывание должно измеряться тюрьмой или смертью? Может, лучше прислушаться к сути высказывания? Смысл журналистской деятельности сводится не только к тому, чтобы информировать, но и к тому, чтобы будоражить умы постановкой вопросов, в том числе и тех, которые могут кого-то обидеть.
Автор — журналист-международник, кандидат искусствоведения