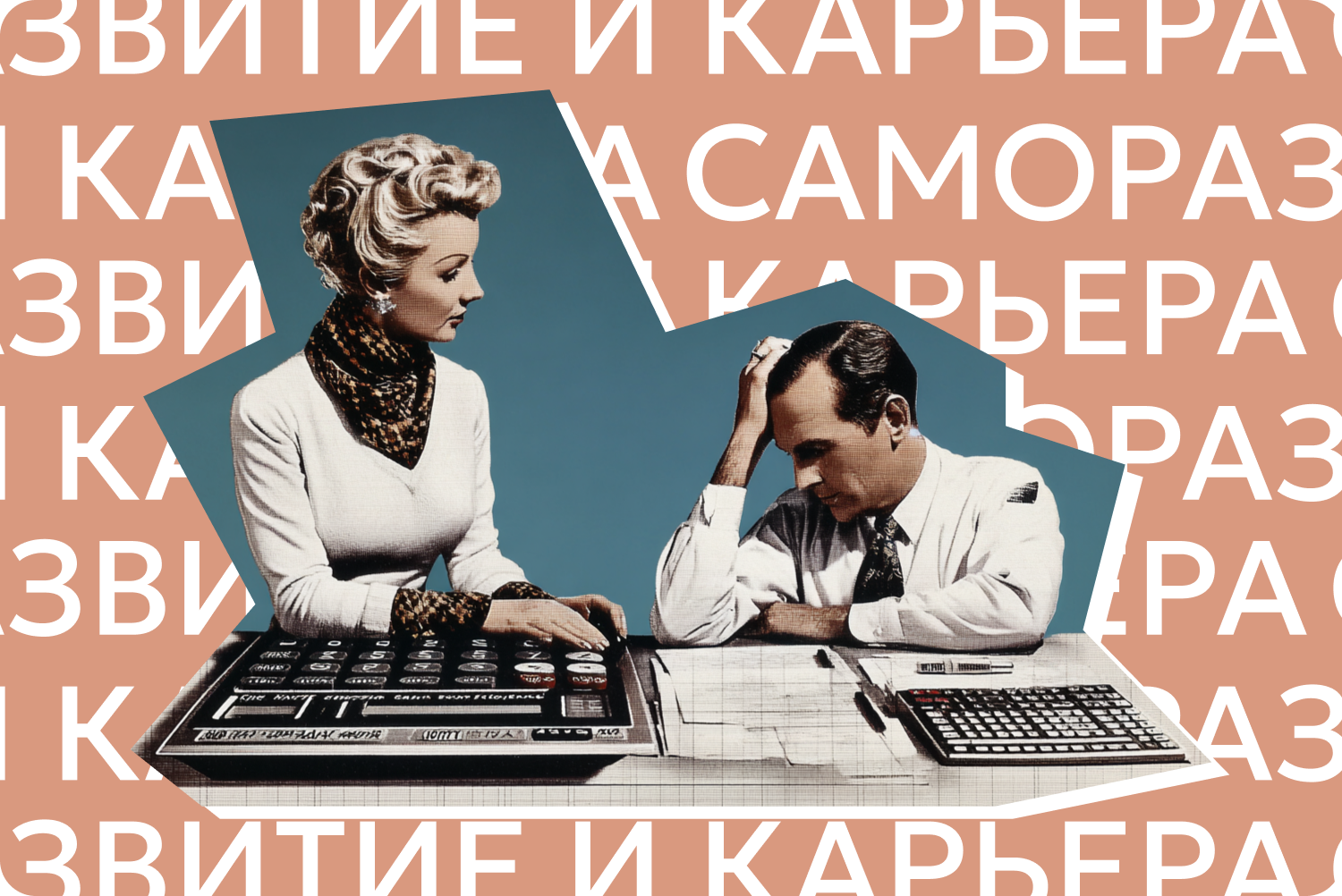— Вы много преподавали в различных странах. Какие студенты вам больше понравились?
— Пожалуй, американские студенты больше понравились. Они не валяли дурака так много, как другие. Все студенты, где бы то ни было, немножко шалопаи — без этого нельзя, я к этому отношусь с пониманием, но разные работы писали не задерживая, дедлайн соблюдали. Более обязательное отношение, меньше прогулов, лучше конспектирование. В общем и целом, люди собирались эту профессию использовать.
Помню, я преподавал в Японии, но поскольку я читал по-английски, студенты были не самые среднестатистические. Хотя, они были страшно все прилежны, как японцам и полагается. В Англии, где я провел последние пять лет, будучи профессором-исследователем при Центре изучения Японии в Школе востоковедения и африканистики при Лондонском университете, я столкнулся с более разнородным студенческим целым, более интернациональным. В чем еще их отличие от российских? Лучше избегать чрезмерных обобщений, но мне показалось, что они больше читают книжки – библиотеки, по крайней мере, всегда набиты битком. Хотя все студенты сейчас норовят вместо библиотеки сидеть у себя дома с компьютером. Возможности, которые предоставляет интернет, — колоссальные, это настоящая революция в способе получения знаний. Теперь в сто раз легче получить какие-то факты. Я это приветствую и сам реже хожу в библиотеку. Но с другой стороны, это страшный соблазн, потому что это отучает людей искать информацию, читать, находить нужное — не когда забиваешь два ключевых слова и тебе сразу на странице толстой книги это открывается, а когда нужно прочесть целую книжку для того, чтобы найти, что тебе нужно, — многое, конечно, отсеивается, но у вдумчивого читателя это куда-то западает.
Боюсь, сейчас возобладал совершенно другой характер усвоения материала — более поверхностный, более точечный, без общеобразовательного бэкграунда.
У студентов Вышки я замечаю, что список использованной литературы нередко состоит исключительно из интернет-источников. Иногда это допустимо, иногда, когда я точно знаю, что есть хорошие книги в местных библиотеках, — это безобразие.
Еще одна проблема в тех сегментах российской высшей школы, которые мне известны, — это нарушение гендерного баланса. Значительное большинство студентов – это девочки. Мне приятно видеть их в классе, многие прилежны, а некоторые еще и умницы, но отсутствие равного количества мальчиков означает, что в профессию не войдет нужное количество специалистов – многие девочки не пойдут дальше первой степени, многих отвлекут замужество, дети и т. п. И это еще означает, что мало смышленых и энергичных мальчиков идет теперь и в востоковедение (как давно уже не шли в филологию и искусствоведение). А из наличных немногих мальчиков значительно больший процент, чем девочки, почему-то не пишет вовремя (а то и совсем) необходимые учебные задания. Так или иначе, я думаю, что, ежели в серьезную японистику через пять-шесть лет войдет пять-шесть толковых ребят из нынешних студентов, будет уже хорошо.
Вообще же, хочу я сказать, пора вспомнить, что высшее образование – это не право, а привилегия: привилегия, которая дается умом и старанием. Массовость ведет к девальвации.
Хорошо бы переименовать все новоявленные «университеты» обратно в кулинарные техникумы и начать выращивать хороших поваров вместо плохих гуманитариев.
— Что вы можете сказать о системе преподавания здесь и в других странах?
<1> — Трудно делать какие-то обобщения. В разных странах они отличались от старого советского образца тем, что они более специализированные и менее глобальны. Искусствоведам, например, дается какой-нибудь обзорный курс, а дальше уже специальные науки. А как нам в свое время читали — каждый курс, начиная от древности и доходя постепенно до современности, за пять лет — такого нет. Я считаю, это правильно.
Как сейчас здесь делается, мне сказать трудно, хотя, читая заголовки вышкинских курсов, я иногда испытываю настоящее удивление. Как я узнал, часто сначала придумываются названия (какими-то чиновниками наверху), потом под них подбирается профессор, который должен, исходя из названия, что-то такое студентам читать. Не уверен, что это правильная практика. Самое правильное – и здесь я Америку не открываю – читать какой-нибудь общий курс на младших курсах и более специализированные, построенные на собственных научных разработках и интересах, на старших. И лучше это, разумеется, не только для профессора, но и для студентов.
А еще я заметил, что есть чрезвычайно много подчас нелепой и изнурительной бюрократической возни с великим множеством бумажек. Я решительно не могу понять, почему каждую программу к каждому курсу нужно писать примерно на 30 страницах – описывать казенным языком какие «профессиональные навыки» студент приобретет. Это вывешивается на университетском сервере официальным образом, заверяется во всяких инстанциях, это якобы студенты должны читать, но любой нормальный преподаватель знает, что студент не будет эту фигню читать и никто не будет.
Естественно, нужно указать цели и задачи, но это можно сделать в одном или двух абзацах. Программы моих курсов в Америке состояли из трех-пяти страниц: задачи, требования, названия лекций, список литературы.
Желая влиться, я, чтобы соответствовать принятым стандартам, посмотрел несколько программ разных коллег и увидел, что в курс, который занимает один модуль, они вписывают в качестве литературы названия 20–30 книг. Это нонсенс, никакой студент не будет читать столько. Лучше бы указать одну-две книжки, но требовать, чтобы студент это проштудировал. Имеет место быть какая-то наивная показуха, это мешает. Это приучает студентов к необязательности. Студент смотрит на этот список из 30 книг на иностранных языках и реально представляет, что ему никогда не прочесть этого.
Соответственно, многие, наверное, делают вывод — а не буду вообще ничего читать.
Кстати, о бюрократизме. Почему-то на все здесь требуется собирать миллион бумажек. Вот мне присудили грант, даже два гранта (но это лишь вдвое увеличило муки) на публикации. Написать статью было быстрее и проще, чем собрать документацию на оплату. Надо было получить великое множество подписей, верифицируемых документов, что эта моя работа заслушана, изучена, проанализирована, признана имеющей достойный научный уровень... Да мало кто может сказать и хочет вникать, достойно это или не достойно — все это делается чисто формально.
На разных уровнях приучают к якобы какой-то документально зафиксированной деятельности, а по сути дела это фальшивая деятельность, которая развращает не только студентов с младых ногтей, но и преподавателей. Этим всегда отличался Советский Союз, и сейчас этого даже побольше.
Всякие органы постоянно меняют разные формы, которым нужно неукоснительно соответствовать. Помню, собрал уже пакет таких бумажек, а выяснилось, что в процессе какие-то там высшие силы поменяли слово «статья» на слово «исследование» — надо было все менять. Это очень раздражает и мешает работе.
— То, над чем вы работаете, — это наука ради науки?
— Нет, я бы так не сказал. Но сначала замечу, что, во-первых, наука ради науки — это хорошая вещь, не вижу в этом ничего дурного и часто этому следую, когда мне интересно разрешение какой-то чисто академической научной проблемы. Во-вторых, я абсолютно убежден, что многие, если не все, сферы фундаментальной науки как в точных, так и в гуманитарных областях не должны иметь непосредственного народно-хозяйственного экономического значения, выражающегося в денежном эквиваленте. Просто если эти вещи не делать – вещи, не приносящие пользу сиюминутно, – то никакой практической пользы не будет вообще ни от чего, ибо только на фундаментальных исследованиях можно построить прикладные разработки.
Что это для меня? Это интерес к предмету, мне интересно решать разные загадки, которых очень много было всегда и они остаются, но самое, пожалуй, интересное, что я начинал свое занятие Японией по двум причинам. Во-первых, я, будучи юношей времен застоя, хотел быть как можно дальше во времени и пространстве от окружающей меня действительности. Средневековые японские красивости были формой достойного ухода. Это было абсолютно непрактично и потому благородно.
Далее случилось так, что мне просто все это интересно, и я занимаюсь этим, чтобы удовлетворить свое собственное любопытство. Но это не Япония ради Японии — это очень интересный кейс-стади для всего Запада начиная с Нового времени.
Художники и литераторы на поколение-два всегда опережают ученых: они выхватывают некие смутные идеи из воздуха времени; проводят эти идеи сначала в своих художественно-образных формах, а потом до этого доходят аналитики.
Так вот, интерес к Японии в целом зародился во второй половине XIX века и не увядает по сей день, потому что Япония — это альтернативный путь развития высокоразвитой цивилизации — не какая-нибудь блаженная простота туземцев, которую кто-то иногда противопоставляет испорченному техногенному западному миру. Это в высшей степени динамичная, успешная, мобильная и гибкая цивилизация, которая налету схватывает все новое, сохраняя при этом все свое старое, которая умудряется решать колоссальные проблемы, а проблемы во всем — и недостаток места, и суровый климат, и отсутствие полезных ископаемых, и постоянные социальные напряжения, которые они успешно преодолели в течение своей истории. Почему это у них получается, а у других не получается? Не то чтобы в Японии совсем нет экзистенциального отчуждения личности или разного рода кризисов личности и общества, но в значительно меньшей степени, чем на Западе.
Рассматривая японские картинки, можно видеть не только, кто там нарисован, а прозревать за этим особенности культуры, которые в визуально выраженной форме, в специфическом искажении «реалистических» форм могут передать очень тонкие вещи о глубинных основах этой культуры.
Я занимаюсь не какими-то отдельными жанрами, а тем, что за этим стоит: почему портреты дзенских монахов выглядят так, а не иначе? Потому что портрет выполнял конкретную функцию в ритуале и играл очень важную роль в обучении молодого поколения. Или какие идеи о человеке как таковом можно вывести из изучения японских стихов и картин – очень тонкие, а изучая экономику или философию — такого не разглядишь.
Я считаю, что, работая с материалом художественным, можно получить более четкие, более нюансированные, более правдивые ответы, нежели читая труды каких-нибудь политиков или даже историков, потому что политик всегда говорит о некой идеальной норме и врет при этом или выдает желаемое за действительное.
А художник не столько говорит, сколько проговаривается. Иметь инструментарий, чтобы эти проговорки вычленить, — это и важно, и интересно. Поэтому, я считаю, курс классических японских древностей, словесности, изобразительного искусства – совершенно необходимая часть обучения для всех японистов, чем бы они ни занимались. Изучить без этого, грубо говоря, банковское дело нельзя так, как это требуется по-настоящему. Хорошему банкиру, наверно, также полезно знать японскую «манеру понимать вещи». К тому же всякие эти банковские дела, политика и прочее, что сейчас может приносить очень большие деньги и за что свежим выпускникам платят большие деньги, — это все приходящее, потому что вся эта проблематика меняется каждые три-пять лет и никто уже не помнит, что эти специалисты изучали 5–10–15 лет назад.
Грустно, но ведь никто не помнит инженеров 50- или 100-летней давности, потому что они занимались прикладными вещами, которые были важны и полезны, но они преходящи. Кто помнит авторов компьютера, сделанного двадцать лет назад? Никто – потому что компьютер этот давно неинтересен. А вот в картинах, песнях или романах того времени (пусть в небольшом проценте от созданного) что-то остается.
— Вы говорили, что интернет произвел революцию в получении знаний. Продолжают ли научные конференции быть серьезным подспорьем в работе?
— Да, безусловно. Хотя, конечно, кто с чем и зачем едет. Часто это вырождается в чистую формальность:
академическая наука во всех странах в последнее время сильно формализовалась в сторону какого-то глупого администрирования и бюрократизации.
То есть научному работнику полагается посещать некий минимум конференций и читать там доклады. Нередко это всего лишь сотрясение воздуха, никому не нужное и не интересное.
Серьезные ученые и особенно молодые должны бывать на конференциях, чтобы послушать, что говорят другие, посмотреть живьем на мэтров своей профессии, которые съезжаются со всего мира, познакомиться, послушать разговоры в кулуарах, по возможности себя показать.
Даже при всех нынешних технических прибамбасах (имейлы, профессиональные рассылки, форумы и прочее) крайне важно общаться лично.
Надо, чтобы видели тебя, надо, чтобы ты умел складно говорить и чтобы это отметили. Когда дойдет дело до публикации, люди, как правило, вспоминают, видели ли они автора, что он говорил, как он выглядел, умел ли он пользоваться ножом и вилкой и поддержать беседу за обедом (на всех конференциях устраивают обычно обеды), — я несколько утрирую, но тем не менее все это важно. Особенно это важно для российских ученых, которые исторически, так уж повелось с советского времени (и это еще не изжито), существовали в отрыве и от мировых тенденций, и от мировых условностей самоподавания на международных мероприятиях. Хорошо, если получается хорошо, но иногда это выглядит немножко трогательно, иногда — немножко жалко, иногда — неприлично. Может, опять же утрирую, но навык совершенно необходим.
Вспоминаю, как я был на одной японоведческой конференции в странном городе для этого, казалось бы, — Бухаресте. Почему странном? Потому что это не центр мировой японистики, но они в университете организовали центр японских исследований — молодцы — и при содействии Европейской ассоциации японоведов и Японского фонда (Японии) устроили там мероприятие. Итак, я вспомнил об этом потому, что там было довольно много участников из страны бывшего восточного блока. Так вот, одна молодая еще по академическим меркам – лет 35–40 – коллега из бывшей братской республики, а ныне независимой державы пробубнила весь свой доклад, не отрываясь от бумажки. Доклад на малоинтересную тему и на посредственном английском, без всякого выражения и с превышением лимита времени на 10 минут. Когда председатель несколько раз пытался призвать ее к регламенту, она просто отмахивалась и продолжала упорно читать по бумажке. Люди в зале пожимали плечами, хихикали… Интересно, пригласят ли ее еще куда-нибудь? Я бы точно не пустил.
На таких конференциях еще устраивают свои презентации разные отраслевые издательства, продавая новейшие книжки часто по вдвое сниженной цене, показывают журналы, раскладывают листовки с рекламой будущих книг и объявляют сбор статей — это способ получения информации о своей профессии, способ вхождения в международный круг.
Замечу, за исключением конференций Европейской ассоциации по изучению Японии, которые бывают раз в три года и собирают по 700 человек, в год может быть еще две-три других больших конференции, все остальные достаточно камерные. И вот тут, когда в хорошее место на хорошую тему съезжаются всего 40 или 50 человек, бывают, как правило, люди очень важные для профессии — костяк — таковых может быть 5–10, но когда всего 50, они не растворяются. На них надо жадно смотреть, с ними надо общаться и понемножку завоевывать свое место под солнцем.
Вот, например, такая конференция была в конце мая в Иерусалиме. Тоже, казалось бы, не самое важное место с точки зрения изучения японской культуры.
Помню, более 20 лет назад я там читал лекции по японскому искусству и японской литературе и был один в поле воин, этот мой недолгий опыт закончился практически ничем, хотя, как оказалось, среди тех, кто слушал мои лекции, сейчас есть несколько молодых специалистов, которые с тех пор побывали в Японии, защитились в Америке и создали год назад Израильскую ассоциацию по изучению Японии, имеют субсидии от государственных научных фондов и Японского фонда, — и вот собрали великолепную конференцию по культуре и искусству эпохи Эдо, куда приехали люди из разных стран от Америки до Японии, включая ведущих специалистов из, например, Гарварда или Нитибункэна в Киото. Такого рода поездки молодому (да и не только молодому) ученому совершенно необходимы, иначе получится какая-то автаркия, которая в отношении науки — проигрышная практика.
— Какие организации кроме Европейской ассоциации японоведов проводят подобные конференции?
— Часто такие конференции устраивает не какая-то одна-единственная организация, а их придумывают разные ученые, которые работают над определенной темой и хотят предъявить коллегам свои текущие работы и услышать, что другие по этому думают. То есть это зависит часто от совершенно конкретных людей.
Мне приходилось несколько таких конференций организовывать – например, в Нью-Йоркском университете (New York University) о китайском влиянии на искусство Японии и Кореи, о их взаимных схождениях и расхождениях. Одна из последних моих конференций имела место, как ни странно, в Москве — тоже очень странное место для востоковедных конференций, особенно по искусству. Я тогда работал в Лондоне, но, заручившись поддержкой Кирилла Разлогова (директора – с начала июня уже бывшего, увы, – Российского института культурологии), устроил конференцию на тему «Ориентализм и оксидентализм» с подзаголовком «Языки культур и языки их описания», куда мне удалось привлечь в итоге около 80 участников, что даже в общем-то было больше, чем нужно (заявок было подано около двухсот). Приехали очень интересные люди, я привез из Лондона настоящий научный десант, которым было любопытно отправиться в это место и в нем разговаривать на свои профессиональные темы. Из 16 стран были люди. При этом, ее было очень не просто делать, была масса организационных сложностей, и я под конец говорил: «Это не должно повториться», потому что несколько раз все было на грани срыва и мои российские помощники из Института культурологии самоотверженно все устраивали и мне помогали, а разные чиновники из деньгодающих институций, как водится, мешали.
Ну, и заканчивая эту тему про международные контакты, скажу, что конференция — это способ узнавать сиюминутные новости, не ждать, когда будет опубликована книга. Книги сейчас публикуют часто спустя много лет после их написания. Средняя журнальная статья может пролежать два-три года после того, как она сдана в журнал.
— Значит, проблемы есть не только при публикации работ на русском языке?
— Да, эта проблема есть везде. Положение сильно ухудшилось последние 10–15 лет, когда в Америке, в меньшей степени в Европе,
расплодилось великое множество молодых специалистов со степенью PhD, которые, чтобы получить место под солнцем и работу, должны чисто формально опубликовать некое количество работ
— без этого их просто никуда не возьмут или выгонят, если взяли на испытательный срок. Многие из-за этого стремятся опубликовать побольше, не думая особо о качестве. В результате журналы и издательства завалены рукописями; то, что принимается, может лежать годами. Печатается много такого, что можно было бы и не печатать. Происходит в общем-то коллапс академического книгоиздания. И при этом, несмотря на все технические новшества, которые, казалось бы, должны делать процесс короче и дешевле, – книги стоят все дороже. Часто их цены просто запрещают простым людям покупать эти академические книги.
Так что на Западе это тоже большая проблема. Вот у меня вышло в прошлом году две статьи: одна лежала два, другая три года. При этом одна шла вообще без всякой доработки. Другую попросили доработать — часто это тоже совершенно условный прием, который входит в правила игры. Считается, что ничего идеального не бывает с самого начала и плох тот рецензент, который не скажет, что все хорошо, только надо кардинально все переделать. Издательству и редакции это тоже удобно, потому что, когда они отдают это автору, они как бы освобождаются на время от его рукописи. Говорят: переделайте, если тому же рецензенту понравится, то тогда, может, и напечатаем.
В общем сейчас большие сложности в академическом издательском мире происходят, журналы распространяются очень мало. Переходят на новую форму распространения — продают отдельные статьи через веб-сайты. Это интересная форма, намного дешевле, чем купить весь журнал.
Вместе с этим я хочу сказать, что главным мерилом успеха, по крайней мере для российских ученых, публикация в лучших западных журналах и издательствах быть все-таки не может.
На конференции, недавно прошедшей в Белых Столбах, выступал профессор Мельвиль, который заведуют в Вышке факультетом политологии. Он говорил много интересных вещей. В частности, он заявил, что единственным мерилом успеха ученого является его конвертируемость, то есть может ли он то, что он делает здесь, делать в англоязычной научной стране — печататься в лучших журналах, читать там лекции. И сделал вывод: так как среди российских ученых таких крайне мало, то, значит, и наука вся какая-то дрянная. Опять же утрирую, он не говорил таких резких слов. Но я могу согласиться с ним лишь отчасти и там вступил в полемику, поскольку я провел больше 20 лет в западном академическом мире и знаю, что все не так однозначно. Ситуация там во многих отношениях лучше, чем в России, но именно потому, что она другая. Российскому ученому, особенно молодому, не имеющему опыта тех же самых конференций и длительного опыта чтения научных статей, совершенно невозможно с налету написать статью, которую примут в ведущий гуманитарный журнал. Я уж не говорю о языке, что является очень сильным ограничивающим фактором, ибо даже те, кто читают книжки, кто могут бойко лопотать по-английски, как правило, не могут написать на богатом идиоматикой языке, хорошим академическим стилем и со всеми мельчайшими тонкостями и правилами. Поэтому всегда, для not native speaker, который не получил обучения в университете той страны, на языке которой он пишет, есть проблемы.
Нельзя всех обвинять, что если они не печатаются, то они просто намного хуже других, — начинать приходится на не равной дистанции, а иметь такой гандикап.
И конечно, очень сложно войти человеку из российской академической среды в западную, поскольку методологический язык совсем другой, иная проблематика, учат не так и не тому. Соответственно, то, что представляется важным здесь, — или пройдено, или давно неактуально. Вот, например, здесь в Вышке я несколько раз сталкивался с тем, что некоторые преподаватели вовсю носятся с «ориентализмом» не как с направлением в литературе и искусстве европейского Запада середины XIX века и дальше, а с «ориентализмом» очень специфическим – в узком и ложном употреблении этого термина, который придумал Эдвард Саид, профессор сравнительной литературы, работавший в Колумбийском университете. Если кратко, он придумал свой «ориентализм» для того, чтобы обложить весь Запад в том, что изучение Востока — академическое ли, художественное ли — это ни что иное, как попытка узнать Восток для того, чтобы его колонизировать или хотя бы надсмеяться. Его «теория» была чрезвычайно популярна на Западе в 80-е, 90-е годы, все молодые преподаватели, которые испытывают, видимо, чувство постколониальной вины, были страшные поклонники этого, учили этому студентов. Давным-давно эта дурацкая теория развенчана серьезными специалистами, а тут ее еще преподнося студентам. Печально.

 Цивилизация
Цивилизация