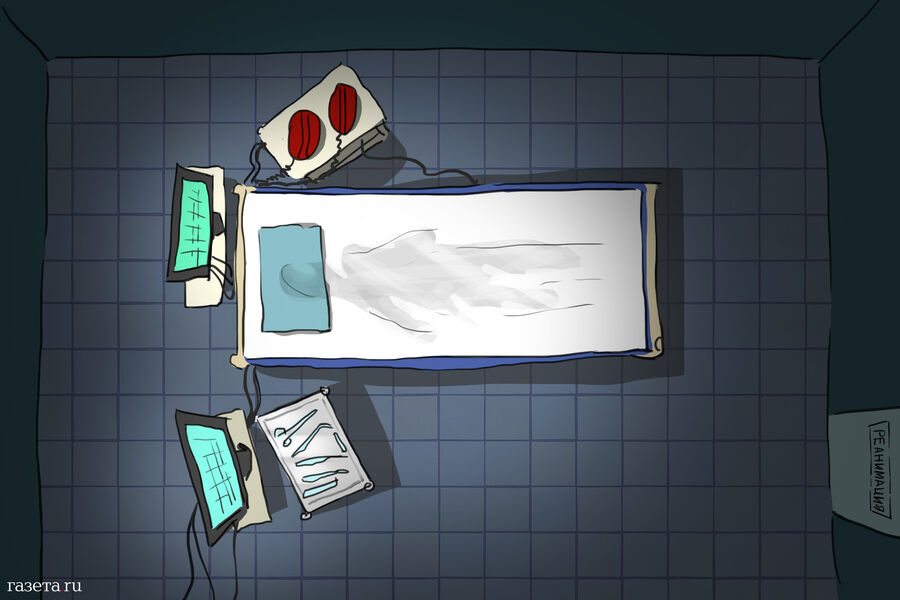Папа хотел, чтобы я вышла замуж за слесаря. Потому что на даче кран всегда течет и трубы опять прохудились. А где он, хороший слесарь – вдумчивый, чуткий, человечный, чтоб делал, а не старался обобрать…
За медика, за медика надо было выходить, пап. Даже за двух медиков. Один чтоб травматолог, другой чтоб реаниматолог. Как в нашей стране да без крупных связей в медицине! О чем мы думали вообще. Надо было всей толпой идти штурмовать медвуз. Чтоб кузина гинеколог, чтоб муж кузины завотделением кардиологии, чтоб сын уролог, а невестка по административной части в Боткинской. Иначе не получается. Иначе получается как в страшном сне.
Давайте поговорим о самом важном и о самом трудном, о чем нормальные здоровые воспитанные люди предпочитают не думать и не говорить. Как хорошо, что мы с вами, нездоровые и невоспитанные, мы поговорим об умирании, о похоронах, о том, как это устроено и почему устроено так унизительно и бесчеловечно. О реанимации и о ГБУ «Ритуал», туды его в качель. О, ГБУ «Ритуал»! Поэзия циничного обмана скорбящих. Если и есть в этой жизни что-то одновременно и всецело трагическое и комическое, так это ты! Знаменитые Безенчук и нимфы. Путешествие на машине времени в беззаконные 90-е.
Мама была для меня всем.
Маме было три года, когда они ехали в эвакуацию. Телега, груженая вещами, перевернулась на мосту, и маленькая будущая мама моя полетела с моста вниз. «Спасите Симочку!» «Спасите Симочку!» – почему-то на всю жизнь запомнила она жуткий крик моей бабки. Это было ее первое детское воспоминание. Симочку спасли. Она выросла, и понеслось. Папа, я, кошки, собаки, дети-сироты, да мало ли за кого можно переживать в этой жизни.
«Спасите Симочку! Спасите Симочку!» – кричала я весь этот месяц. И всю свою жизнь. Я была ранена будущей смертью матери с детства.
Мама была не как все. Мама все делала не так. Мама учила меня стихам с самого рождения, мама вместо колыбельной пела мне танго. «Пускай проходят года, но власть любви велика». Мама научила меня в мои 6 лет всему «Онегину» наизусть. Мама горько плакала о своем отце спустя тридцать лет после его смерти. У нее я научилась боготворить своих родителей. Мама просила меня не плакать, когда она умрет, – извини, это у меня не вышло.
Ося говорит, что мама была неправа: разве можно так привязывать к себе ребенка. Да, мы все знаем про сепарацию и отсутствие сепарации между ребенком и родителем. Ну, и что нам то знание.
Сразу скажу, что история эта обычная. Самая обычная. Так все и говорят, что история обычная. Как у всех. Все хоронят родителей. Утешают. Так они меня утешают.
Да мне дела нет до того, что все хоронят родителей. Такую частную вещь на всех не поделишь, это не коллективное переживание, мамина смерть. Это частная личная вселенская трагедия.
А история обычная, да. Маме было 80+. Мама сломала шейку бедра. Мама в больнице подхватила пневмонию. Про которую мне несколько раз завреанимацией Михаил Борисович сказал и даже специально выделил голосом и жестами, что пневмония, мол, внебольничная (это вы зря, Михаил Борисович). Хотя какая, в сущности, разница. Мама умерла в реанимации.
Раньше все умирали дома. Сейчас все умирают в реанимации. И это цивилизационное приобретение не пошло нам на пользу.
Вот мы в Боткинской. Теперь все под контролем. Мы в бесстрастных и смертельных объятьях российского здравоохранения.
Как только я сажусь в лифт, из лифта выходит группа врачей и пациентов, и я слышу шлейф разговора: «Самое страшное – это сломать шейку бедра». Хорошо нас встречает больница, радостно. «Самое страшное – это сломать основание черепа», — утешает врач, который меня знает.
Знаменитая шейка бедра. Сейчас есть распоряжение оперировать шейку бедра несмотря ни на возраст, ни на состояние. Сразу, немедля. Но знакомый врач тянет, говорит, что время терпит, не опоздаем.
Ну, конечно.
Мы успеем в гости к Богу.
Как только ты переступаешь порог лечебного учреждения, лучшего в России, наступает мгновенное расчеловечивание, ты просто статистическая единица, кусок мяса и костей, с катетером в мочеточнике, ты никто, ты просто номер болезни. Тебя не вылечат, тебя не пожалеют – с тобой поступят согласно инструкции.
Как это совместить: самое ценное, что есть в мире, и полное отсутствие его ценности для людей, от которых зависит жизнь. С этого момента мне придется много раз повторять: «Вы хотя бы понимаете, что разговариваете с дочерью умирающей матери?»
– Крыса она какая-то, совок, что ли, вернулся, – послушав мой разговор с дамой из справочной, говорит Ося.
– Да, правда? А я даже внимания не обратила, привыкла, наверное, да и не ждала ничего другого, ты бы слышал, как со мной врачи разговаривают…
Но пока у меня еще есть ресурсы смотреть на все с иронией. Я вижу, как и во что одеты врачи, сколько стоит их одежда, даже на сестрах «эплвотч» дороже и поколениями новее моих, при этом в отделение надо ложиться со своей посудой и столовыми приборами. Индивидуальной посуды нет. Как в старом добром прошлом нашем, наливают компот из большого, советских времен чайника, но я должна иметь свою чашку, в которую этот советский компот вольют, и кашу нам нальют из большого, советских времен чана. Ни вилок, ни ложек нет – видимо, все поперли пациенты.
Всего десять лет тому назад, говорит старая нянька, тут были, как она изящно выразилась, «проссанные матрацы», которые под лежачими никто не менял, а только иногда переворачивали. Нянька тут давненько, многое повидала, нянька не моложе моей мамы, нянька со своей нянькиной гордостью и нянькиным достоинством, говорит с жутким акцентом, не могу понять из какого региона привезенным, она отказывается помогать переворачивать мою маму, так как «всех не напереворачиваешься», и я уважаю ее заботу о своем здоровье.
Дальше как во сне, я стою четыре ночи и обдуваю маму папкой вместо веера, маме все время кажется, что она опять падает, она все время хочет пить, мама больше не может спать, сна больше нет, мама все время хнычет: дайте мне умереть, мы делаем какие-то бесконечные мучительные анализы и исследования, где-то в это время чья-то очень добрая и сочувствующая рука вытаскивает у меня из сумки все мои деньги. Через четыре дня наступает внезапное (!) ухудшение, ночью звонит сиделка и дает послушать страшные крики матери, утром маму увозят навсегда.
И вот она, реанимация с очень внятной надписью над входом: «Desine sperare». Оказывается, у мамы двусторонняя пневмония (которой все-таки при поступлении не было) и «инфаркт второго типа», про который никто не знает, что это такое. Нет такого диагноза. Это просто хитрое название, эвфемизм для другого, гораздо более понятного диагноза: «не жилец». Десять дней ее мучают в реанимации, не дают нам с ней проститься, через десять дней она умирает. Ее безжизненное тело еще долго мучают бессмысленными и бесчеловечными реанимационными мероприятиями. Оживляют. В день ее смерти в Саратове проходит премьера моего фильма «Бессмертные», о попытках человечества противостоять неизбежному.
Дьявол ироничен. Даже те, кто только снимает фильмы о борьбе за бессмертие, – теперь и навсегда под его опекой.
Вот выжимка последних дней жизни одного частного человека.
Но подробности – бог, как говорил Гете.
В США больной, если он в сознании, или родные больного, если он без сознания, самостоятельно принимают решение о двух принципиально важных вещах. В результате принятого решения тебе вешают на запястье обруч с надписью DNR и DNI (do not resuscitate, do not intubate): не реанимировать, не интубировать. То есть если смысла нет, над тобой не издеваются перед смертью. В США есть понятие comfort care, комфортный уход. Есть понятие closure, когда родные могут попрощаться и завершить для себя тот путь, который прошли вместе. В России всего этого нет. Законы пишутся даже не врачами. Инструкции пишутся чиновниками от медицины. Роскошь спокойного ухода нам недоступна. Денег реанимации нам не жалко.
Мама лежит в реанимации много дней, она на ИВЛ, она интубирована, нам прямо говорят, что шансов нет, при этом нам не дают проститься и не дают ей уйти по-человечески. «Шансов нет». Но «лечим». Как это сочетается? Сколько будет длиться этот морок?
А сколько угодно. Завотделением реанимации Михаил Борисович говорит мне с явной иронией и при этом победно и внимательно смотрит в глаза: «А мы ее будем держать в таком состоянии сколько угодно, «нас ничего не ограничивает».
Согласно приказу главврача, нас не пустили проститься, согласно закону РФ ее тело бессмысленно и долго мучили (все равно неизвестно, что чувствуют больные в медикаментозном сне). А согласно какой инструкции вы, Михаил Борисович, нас обманывали: зачем обещали дать проститься, если мама будет уходить – и не дали? Зачем обещали не делать непрямой массаж сердца, а ограничиться более гуманными видами реанимационных мероприятий, и ломали ей ребра – в гробу узнать невозможно и кофта перевернута задом наперед? «Зачем, зачем великой стране, победившей Гитлера, понадобилось проехать танками по груди одной старухи». Зачем сказали, что она протянет еще две недели (другой врач сказал, что день-два – так и вышло). В какие врачебные клятвы входит инструкция о непрямом массаже сердца и прямом обмане родных? Нет, вы не нарушали инструкций. Вы нарушили такие пустячные и ненужные законы гуманности, а за них нигде не наказывают. Нигде.
Разговор с врачом из другого отделения по поводу моей мамы:
– Будут ли оперировать?
– Оперировать не будут 500 процентов.
– Но почему?! Ведь она же будет лежачая.
– А зачем ее оперировать, раз она не собирается ни ходить, ни жить. И зачем хирургу смертность…
– А что же вы тогда с ней делаете?
– Лечим. Мы ее лечим. Делаем все возможное, не мешайте.
– Что вы делаете все возможное? Как вы пытаетесь вытащить человека после двух недель на ИВЛ с интубацией, который не сможет даже глотать и, по вашим же словам, не собирается ни жить, ни ходить?
– Отключать ее никто не будет! – орет на меня врач. – У нас уже Сушкевич посадили на девять лет.
Как это понять? «Спасти невозможно», но «лечим».
Все врачи так и говорят. Друзья, вы молодцы, вы любое сообщество переплюнете, журналисты со своей корпоративной солидарностью и «Я/мы Иван Голунов» в подметки не годятся вам – «Я/мы Сушкевич и Белая».
Нет, я не хочу сказать, что после всего я ненавижу нашу медицину. Разные есть врачи, как везде, хорошие, плохие, и милосердные, и может быть, в принципе врач – это про помогать… Я даже точно знаю, что отделение урологии (по крайне мере, семь лет назад) в этой же больнице было очень хорошим, и даже мне встретился в нем настоящий врач Шамхан Таусович.
Смирись, от тебя ничего не зависит, говорят мне все…
Знаете, мама меня так не воспитывала. Я не отношусь к тем людям, кто думает, что от них ничего не зависит. Я вообще удивляюсь, как в условном 1937 году родственники отдавали своих в тюрьму, на каторгу, в смерть. Надо было не отдавать: договариваться или отстреливаться – но не отдавать. Неужели совсем не было таких случаев? А сходство какое-то между тем, что чувствовали они тогда, и тем, что чувствую сейчас я, есть. Большое сходство. Меня тоже не пускают за колючую проволоку. И я тоже не решаюсь отстреливаться.
Мама, ты мучилась недолго, всего 16 дней. Фигня. Бывает и хуже. Мы долго думали, как это будет, но вышло вот так. Такая жизнь выпала. И такой ее финал. Ирка говорит, что чем лучше человек, чем тяжелее умирает. Ее личная статистика сложилась в такую картину. Мама, всего 16 дней. Не целых 16 дней. А всего. Шесть из которых я была рядом. Ну, давай отнесемся ко всему со смирением и с иронией, как ты всегда относилась.
«Моя умерла точно так же, – говорит Галя, – и также от перелома шейки бедра. 20 лет тому назад. Оказывается, за 20 лет ничего не изменилось».
Какое там 20. Все как во времена Антон Палыча. В рассказе «Горе» о замерзшем токаре и его умершей старухе, которую он все время, пока вез по пурге к доктору, называл брат-старуха и умолял потерпеть.
«Ну... что же ты плачешь? Пожил, и слава богу! Небось, шесть десятков прожил – будет с тебя!» – говорит все так же доктор. И мы все так же заискиваем перед его высокоблагородием доктором и все так же не можем рассчитывать на его снисхождение.
Я пью таблетки, в инструкции к которым черным по белому почти дантовским слогом написано: «для переживших катастрофу». Так и написано.
Мне кажется, что моя мама святая. Психотерапевт злится, что я идеализирую мать и говорит про нее: «Человек, который не хотел жить своей жизнью». Я много раз и много дней верчу в своей голове эти слова. Они ничего не объясняют в феномене этой угасшей жизни.
…Каждому есть что рассказать, доктор, каждому… И эта история тоже начинается раньше, чем я думаю.
Родители мои говорили о себе очень мало – да и то всякие небылицы. Так что я, доктор, точно не могу сказать, были ли мои деды и бабки сплошь выдающимися личностями или это так хочется думать моим родителям.
По маминой линии, доктор, история такая: поженились совсем разные люди – и пошло у них тут: крики, слезы, битие посуды и разрывание денег на мелкие клочки. Действительно, когда бабка доводила деда, то уж доводила она его до какого-то такого исступленного состояния, что тот вдруг затихал, доставал купюры, одну за другой подносил к свету, а наглядевшись вдоволь – злобно рвал. Этим он, я так понимаю, протестовал сразу против всего на свете. Ниссон Зусевич его звали. Утром деньги склеивали и оставляли висеть на прищепочках. Оказывается, есть такое имя: Зусь, Зусман, мам. Дед был характера самого бесшабашного и безбашенного, делал сальто мортале не умея, играл на рояле не учась, орал из окна машины: «Сталин убийца» – и ничего ему не было. А умер дед от врачебной ошибки (боюсь, как бы это у нас не семейное), дед, над смертью которого мама плакала спустя десятки лет, умер, едва исполнилось ему 50, заболело сердце, пошел к врачу, врач назвал жалобы пустяками, грудной жабой, и твердо пообещал, что дед проживет еще сто лет. Дед вынужден был поверить, а на следующий день замертво упал на остановке. Я видела эту их общую фотографию с похорон и с тех пор знала, как именно выглядят раздавленные горем люди.
Ну, а дальше было что… Дальше был низкий жанр. Под названием: агенты ритуальных услуг разрывают покойника на части. Дальше по сюжету шли «Безенчук и нимфы», первая глава знаменитого романа. Дальше было бы смешно, если б не было так… – да нет, все время было смешно. Тупо, отвратительно и смешно. Боткинская реанимация клялась, что это не они слили наши контакты, а что они обязаны сообщать в отдел перевозки умерших и вот мол там. Верю. Верю как себе.
Так или иначе, агенты ритуальных услуг начали звонить через секунду после смерти, в субботу поздним вечером. Мы твердо решили, что не дадимся. И как только мы это решили твердо, тут и выяснилось, что выхода нет. Выбирать можно только между мошенниками. Ну, строго говоря, это не мошенники, нет, не подумайте плохого. Это просто стервятники.
Помните, была такая в 1990-е, в начале 2000-х таксомафия в международных аэропортах. Выходишь в зал прилета – и набрасываются. Потом с этой мафией справились, поставили приложение «Яндекс.Такси», привели службу в божий вид. Но если затосковали, если захотели скататься на машине времени в милое нецивилизованное наше прошлое – умрите.
Как только нога наша ступила в приветливое и прохладное здание морга, на нас набросились эти таксисты из 90-х: вам куда девушка, довезу за 3000. Нам пришлось отдаться в ГБУ «Ритуал», как бы государственную службу, но даже хуже, и ценник у них гораздо выше, чем у коммерческих служб. 700 рублей одна пластиковая заклепка на ручки гроба.
Понятно, что в похоронщики, могильщики, в санитары морга идут люди, изначально лишенные эмпатии и фантазии. Так что все закономерно. Мы и не ропщем. Но все-таки не ясно, почему же не похорошить и не нарумянить Москву мертвецкую?
Что же так нецивилизованно-то? Если в этих местах с тобой вдруг начинают говорить по-человечески, значит, в конце вы услышите: «Отблагодарите по возможности» – и даже фраза под копирку (утверждена свыше самим дьяволом). Если нет инструментов вытащить деньги официально, то буду выцыганивать.
Дама в зале прощаний, которая только что, перед церемонией, говорила со мной цинично, весело и грубо, в минуту церемонии преображается.
– И вот наступают эти скорбные последние минуты… – говорит она пародийным голосом.
– Пожалуйста, без текста, – в ужасе говорю я.
– Как хотите, – дама обиженно ретируется.
Хотя бы прощание проходит без издевательств.
Сегодня стояла на светофоре и видела, как две целлофановые сумочки из соседнего супермаркета, держась за руки, перебегали дорогу. И не какие-нибудь там из-под мяса или потекшей рыбы. И не те, с которыми ходят годами, чтобы сэкономить рубль. Они были совсем свеженькие. В одну только что один раз положили один банан – и только. А вторая еще пахла молодым салатом. Они совсем уже перебежали, как вдруг первую сбила машина, протащила за собой метров 10 и переехала шипованным в 19 дюймов колесом. И тут же у всех на глазах порыв ветра унес ее душу на небо. А вторая сумочка сразу закружилась от горя на месте и, чуть-чуть только поколебавшись, полетела за ней.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

 Цивилизация
Цивилизация