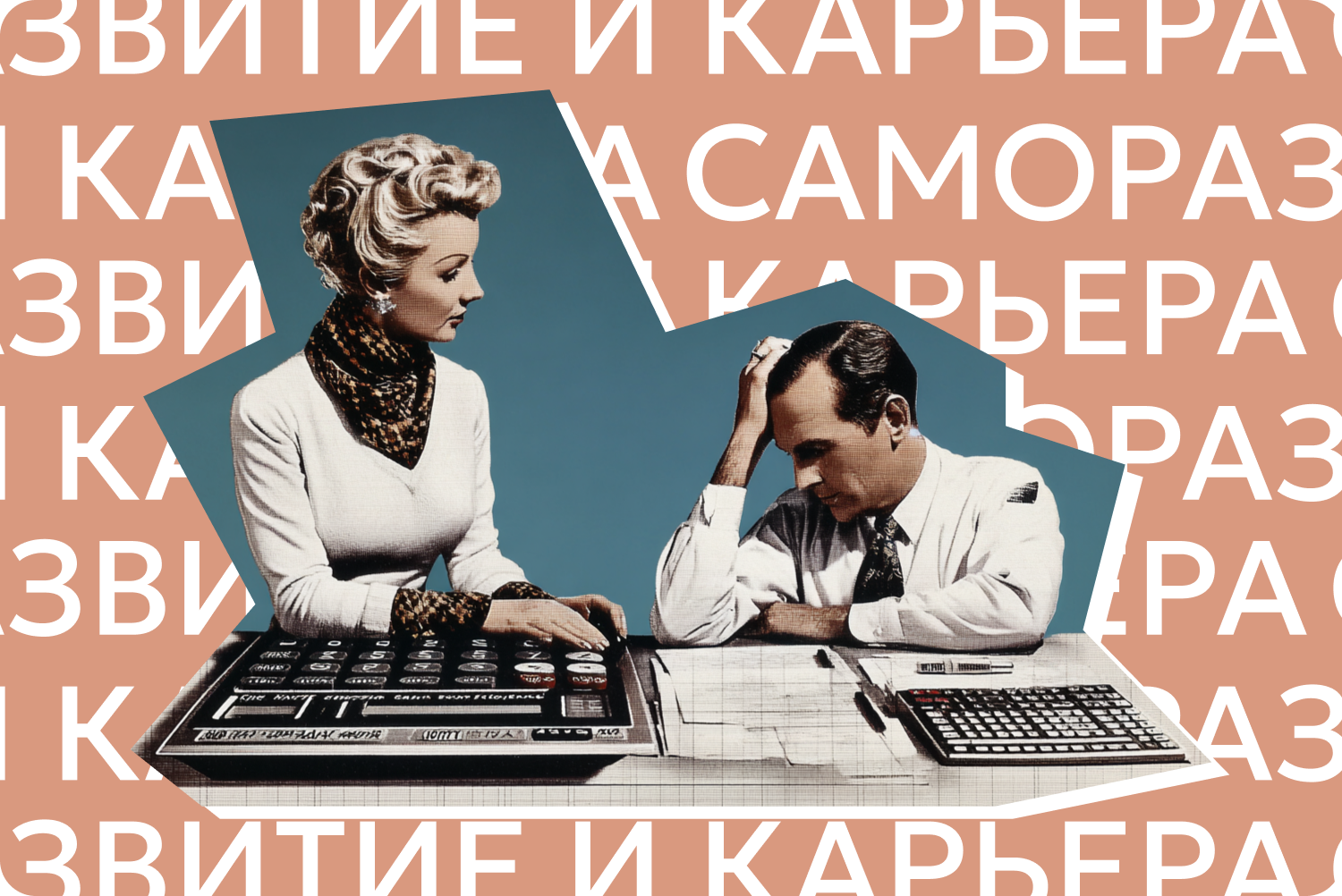— Сегодня Всемирный день донора костного мозга. Вы возглавляете клинику, которая является рекордсменом по этим пересадкам. Как изменились технологии пересадки костного мозга за последние 20 лет?
— За эти 20 лет произошли две принципиально важные вещи. Первая – была отработана совершенно новая технология подбора неродственного донора. С внедрением специальных методов ДНК-типирования стало возможным подобрать тех доноров, трансплантация от которых ассоциирована с гораздо меньшим количеством осложнений, чем это было до 2000 года.
Второе — появились специальные методы очистки донорского костного мозга от тех фракций клеток, которые вызывают специфические и очень тяжелые осложнения. В результате, если до начала XXI века вероятность выздоровления пациента, который получал трансплантацию от неродственного донора, составляла 20-30%, то сейчас эти результаты улучшились примерно вдвое.
— За счет чего улучшились результаты?
— Из-за новых знаний, а именно понимания, что такое совместимый и несовместимый донор. А также, конечно, в связи с огромным расширением баз данных потенциальных доноров.
— То есть теперь совместимым донором может оказаться не только родственник?
— Именно так.


Алексей Масчан
Нина Зотина/РИА Новости
— Но родственник все равно же лучше?
— Сейчас результаты пересадок от родственного донора, который называется геноидентичным, абсолютно сравнялись с результатами трансплантации от неродственных доноров, и произошло это именно благодаря совершенствованию системы подбора из-за развития ДНК-типирования. Это самый точный метод исследования генетического сходства, который может выявить наиболее совместимых доноров.
— На чем основан метод ДНК-типирования?
— На существовании различий в структуре ДНК, определяющих так называемую тканевую (иммунологическую) совместимость разных индивидуумов.
Когда французский гематолог Жан Доссе в 1966 году открыл систему тканевой совместимости, то доноров подбирали по поверхностным характеристикам лимфоцитов человека. И оказалось, что те характеристики, которые считались одинаковыми при таком методе типирования, который называется серологическим, часто совершенно не совпадают при генетическом типировании.
Когда стали расшифровывать сами гены, которые определяют тканевую совместимость, то выяснилось, что внутри ранее считавшихся совместимыми групп находятся десятки, а в некоторых случаях и несколько десятков совершенно разнообразных генов, которые обусловливают либо отторжение, либо тяжелую болезнь «трансплантат против хозяина», когда иммунные клетки, находящиеся в костном мозге донора, атакуют нормальные здоровые ткани реципиента.
— То есть даже ближайший родственник может иметь гены, которые будут атаковать?
— Если быть совсем точным, то абсолютно совместимых людей даже между братьями и сестрами не бывает. Если только речь не идет об однояйцевых близнецах. Всегда есть определенные различия. Именно с этим связано то, что, несмотря на так называемую полную совместимость, пациенты нуждаются и в подавлении общего иммунитета для того, чтобы он не отторгал донорский костный мозг, и в подавлении посттрансплантационного иммунитета, чтобы не развилась болезнь «трансплантат против хозяина».
Правильнее говорить о «позволительной, допустимой несовместимости».
— Вы всегда назначаете терапию, которая «работает против отторжения», но доза и количество необходимых лекарств может быть разной?
— Именно так.
— Так как сейчас существует возможность помочь разным людям, а не только своим родственникам, регистры доноров костного мозга должны сильно пополниться?
— И они пополнились, раньше доноров было очень мало. А сейчас в общемировой базе данных, объединяющей десятки регистров, — порядка 36 млн доноров. И для отдельных этносов, главным образом кавказоидов (раса белых людей), подобрать донора гораздо легче, чем, скажем, для азиатов и выходцев с африканского континента.
— Российские врачи тоже могут пользоваться этим регистром?
— Да, и мы активно брали оттуда доноров, главным образом – из Германии, потому что перемещения между Россией и Германией были колоссальными: и миграция, и войны, во время которых происходило смешивание кровей.
— Сейчас сотрудничество по донорству продолжается?
— Продолжается. Но если говорить о приоритетах, то при наличии совместимых доноров в нескольких регистрах мы скорее возьмем донора из российского, потому что логистически это легче.
— А сколько в российском регистре доноров?
— Около 200 тысяч.
— Этого не хватает?
— Ни один национальный регистр не может охватить всех потребностей своей страны.
— Расскажите о методах очистки донорского костного мозга. Как это делается?
— Первый метод — это механическая очистка от активных лимфоцитов, которые вызывают болезнь «трансплантат против хозяина». Потому что мы пересаживаем не только стволовые клетки, которые потом восстанавливают кроветворение и иммунитет, но и зрелые лимфоциты. Они в огромном количестве примешиваются к трансплантату, вызывая болезнь «трансплантат против хозяина». И, не очистив костный мозг от них или не убив эти клетки, когда они уже попали в организм, мы не можем обеспечить безопасную пересадку.
Второй, более простой метод — введение препаратов после пересадки, которые резко снижают риск и тяжесть болезни «трансплантат против хозяина».
Более того! Теперь при некоторых патологиях, например, лейкозах, в приоритете стоят даже не совместимые, а только наполовину совместимые доноры, поскольку результаты трансплантации с точки зрения рецидива лейкоза для них лучше, чем при совместимых пересадках.
— Сколько обычно берут костного мозга у донора?
— Можно пересаживать сам костный мозг и клетки периферической крови. Если берется сам костный мозг, а делается это путем множественных пункций из кости, — то это не более 5% от всего костного мозга донора, – примерно 20-30 мл на кг веса реципиента. Для взрослого пациента это около полутора литров. У детей существенно меньше.
— Полтора литра? Кажется, что это очень много…
— Это немало. Но ведь это не только костный мозг, с ним берется примесь крови. И это не является существенной потерей для кроветворения донора. Полное восстановление происходит в течение нескольких дней или максимум недели.
— Процедура забора происходит под наркозом?
— Да. Костный мозг забирается либо под общей, либо под спинальной анестезией. Спинальная анестезия часто используется, например, при родах или ортопедических операциях. Донор ничего не чувствует. Но у детей мы спинальную анестезию не используем, только общий наркоз.
Если пересаживаются клетки периферической крови, то сначала мы специальными методами «выгоняем» кроветворные клетки из костного мозга в кровь, а оттуда уже их забираем с помощью безопасной и довольно легкой процедуры. Кровь многократно «прогоняется» через центрифугу, в которой автоматически отбираются нужные клетки, а остальное возвращают донору.
— Сколько вы сейчас делаете таких пересадок в год?
— Мы работаем только с детьми. И в свои лучшие годы мы делали по 240 пересадок в год, сейчас примерно 190-200.
— Почему их стало меньше?
— До 2022 года мы использовали методики, которые основаны на западных реагентах, чтобы освобождать костный мозг от нежелательных клеток. И это приводило к тому, что у пациентов было гораздо меньше осложнений после трансплантации, следовательно — меньше времени проводили в стационаре.
Сейчас немецкие партнеры отказались поставлять эти реагенты, и мы перешли на более простую, но менее эффективную методику очистки костного мозга «in vivo». В связи с этим сроки пребывания в клинике удлинились.
— Можно ли заменить эти реагенты, например, китайскими?
— Нет, это невозможно. Все было построено на немецкой технологической базе.
— При каких заболеваниях необходима трансплантация костного мозга?
— Это огромный список заболеваний, примерно 500-600. Прежде всего, это три большие группы: злокачественные заболевания крови, врожденные нарушения иммунитета, врожденные нарушения обмена веществ.
— Какие еще подходы к лечению онкогематологических заболеваний, помимо трансплантации костного мозга, существуют?
— Трансплантация при детских онкогематологических заболеваниях нужна максимум 20-25% больным. И скорее всего их количество будет сокращаться, потому что успехи и химиотерапии, и новых подходов – клеточной и иммунотерапии – таковы, что перспектива нетрансплантационного лечения видится самой радужной.
И сейчас ученые борются за то, чтобы избавить химиотерапию от такого большого количества побочных эффектов, заменив отдельные ее компоненты совершенно другими подходами, в частности иммунотерапией.
— Российские ученые пытаются создать собственные молекулы?
— В России есть две компании, которые взялись за разработку подобных молекул или даже улучшенных. Это «Биокад» и «Генериум». Но о массовом создании молекул «с нуля» речи не идет.
— Почему мы не разрабатываем собственные молекулы с нуля?
— На Западе вся система направлена на то, чтобы помочь фарме из многих сотен новых молекул выбрать те, которые будут эффективны. Там существует огромное количество маленьких биотехнологических университетских лабораторий, которые производят все что угодно. Потом это уходит в доклинические и, далее, клинические испытания, а уже потом продается большой фарме для завершения испытаний и коммерциализации. У нас этого нет, но даже то небольшое количество компаний, которые работают в этом направлении, испытывают трудности с разработкой абсолютно инновационных препаратов.
— Доступна ли эта новая химиотерапия и другие новые методы лечения в России?
— Да, они доступны, потому что зарубежная фарма не уходила с российского рынка, это касается и инновационных препаратов. Были некоторые перебои логистические, но вся фарма заявила, что остается в России. Проблема заключается в другом – согласно нашим законам, препарат не может быть зарегистрирован в России, если не прошел на территории нашей страны клинических испытаний. И сейчас, естественно, все зарубежные испытания прекратились.
— Ваш институт также занимается орфанными (редкими) заболеваниями. Сколько их существует и как обстоит дело с их диагностикой в России?
— Существует примерно тысяча орфанных заболеваний. Сейчас с их диагностикой стало гораздо лучше, так как появились технологии полногеномного анализа. Этот анализ сильно подешевел: раньше он стоил $2-5 тыс., сейчас – $400. И, главное, он дает точную информацию о болезни. Думаю, когда он совсем подешевеет, этот анализ будут делать всем малышам при рождении. Это, конечно, проекты далекого будущего, но не настолько далекого, чтобы до него не дожить.
— Если говорить о лечении редких заболеваний: в России работает несколько фондов, в частности «Круг добра», которые дают возможность лечить детей. Но что делать взрослеющим пациентам, когда они выйдут из зоны опеки фонда?
— «Круг добра» – это государственный фонд. И получение лекарств через него – это не всегда просто и быстро даже для детей. Хотя фонд крайне мощный. Но что получается дальше? Пациенты, которые имеют эффективную терапию в детстве, доживают до возраста, в котором они формально начинают считаться взрослыми, причем доживают именно благодаря этому лечению. А дальше фонд их поддерживать уже не может.
И получается катастрофа. Собрать деньги на маленькую беленькую голубоглазую девочку с косичками еще можно, а на взрослого, уже не вызывающего такой эмпатии, — нет. И чаще всего эта проблема не решается.
— То есть переход этих пациентов во взрослую службу кардинально влияет на качество медицинской помощи?
— Совсем кардинально. Они довольно часто оказываются в ситуации, когда ими вообще никто не занимается. По крайней мере, если мы говорим об орфанных заболеваниях, которые сейчас обеспечиваются «Кругом добра», — во взрослом возрасте этого решения нет.
— Что же делать?
— Думаю, фонд «Круг добра» вполне мог бы расширить свою активность и на людей до 25, а может и 30 лет. Я убежден, что и в дальнейшем государство обязано заботиться о таких пациентах, потому что ни один из нас не зарабатывает столько денег, сколько требуется на лечение орфанных болезней. И сейчас получается, что все усилия, которые уже потрачены на этих пациентов в детском возрасте, могут оказаться потраченными впустую. Это касается как больных орфанными, так и онкогематологическими заболеваниями.